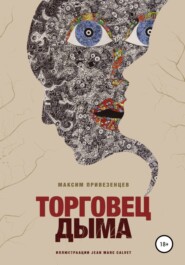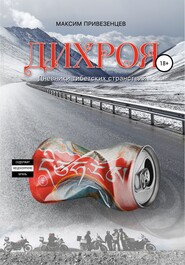По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шотландский ветер Лермонтова
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шотландский ветер Лермонтова
Максим Привезенцев
Книги о путешествиях #4
Михаил Юрьевич Лермонтов был не только особенным поэтом, но и личностью выдающегося масштаба. Человек, чей род имел шотландские корни. Истоки рода, места, где много веков назад жили предки поэта, решил исследовать Максим Привезенцев. Он отправился в мотопутешествие по Шотландии. Максим пытается найти ответ на вопросы: мог ли Лермонтов кардинально изменить свою жизнь, окажись он в Шотландии? Что случилось бы с Лермонтовым, окажись он в 1841-ом году в горах Шотландии, а не Кавказа? Параллельно в книге развивается сюжет, раскрывающий главные события в жизни Лермонтова, приводящие Лермонтова к фатальной развязке.
1831 июня 11 дня
Миша Лермонтов медленно поднялся вверх по лестнице, вошел в комнату на втором этаже и, закрыв за собой дверь, побрел к кровати.
«Глупый! – думал он про себя. – Чего, интересно, ты ждал? На что надеялся?..»
Усевшись на перину, Миша придвинулся к стене, оперся на нее спиной. Наверное, ему бы надлежало горевать, но он ощущал внутри себя лишь странную пустоту – будто из него вынули нечто важное, но вынули нечаянно, безо всякого намерения причинить боль.
«Хотя… может, я просто этого еще не понял?»
– Мишель? – послышался из-за двери женский голос. – Я могу войти?
Юноша промолчал, рассеянно глядя перед собой. Мысли путались в голове, – осознание случившегося по-прежнему не наступало.
– Может, все-таки ответишь? – нетерпеливо спросили из-за двери.
Юноша вздрогнул, и покусав губу, сказал:
– Прости, задумался…
– Так я войду?
– Конечно!
Дверь открылась, почти бесшумно ступая по паркету зашла Елизавета Алексеевна. Ей не было и шестидесяти, и казалась она значительно моложе своих лет; только две детали могли выдавать истинный возраст – белоснежно-седые локоны, выглядывающие из-под чепца, и усталые, выцветшие глаза, некогда бесконечно зеленые, точно луговая трава, пропитанная утренней росой.
– Так что случилось, Мишель? – участливо спросила бабушка.
Юноша посмотрел на нее исподлобья, и она против воли на мгновение скривила губы. Тому виной служили его красивые карие глаза – наследие рода «Лермантов», столь нелюбимого Елизаветой Алексеевной. Ничего во внешности внука больше так не смущало бабушку, хотя, вот ведь ирония, это была единственная приятная деталь во всем портрете юноши. Огромная голова, широкий лоб и острые скулы, вздернутый кверху нос… Миша не был красив, но, поскольку все свои характерные черты унаследовал от покойной матери, Елизавета Алексеевна любила их в нем – они напоминали ей о дочери.
Сделав вид, что не заметил мимолетной гримасы бабушки, Миша пожал плечами. Елизавета Алексеевна, шумно вздохнув, подошла к кровати и опустилась на перину рядом с внуком. Некоторое время они молчали – бабушка смотрела на Мишу, а тот – в сторону, избегая ее взгляда. Говорить юноша не желал; собственно, он вообще ничего не желал в те минуты – кроме, разве что, не оставаться в комнате наедине со своими мыслями. Посидеть бы еще вот так, не издавая ни звука, но понимая, что подле тебя есть кто-то еще, слышать дыхание, улавливать взор…
– Это все из-за Натальи? – спросила Елизавета Алексеевна.
Миша нехотя покосился в сторону бабушки, снова неопределенно повел плечом, но вопрос ее, кажется, был скорей риторический, поскольку она тут же с теплой улыбкой произнесла:
– Ну полноте, мой соколик! Наталия, конечно же, мила и хороша собой, но не обязательно ведь она – та самая, единственная, по которой стоит лить слезы?
– А я и не лью, – тихо, но без тени волнения ответил внук.
Елизавета Алексеевна коснулась его плеча:
– Я вижу, мой черноокий. И знаю, что не будешь, ты не из таких… но тревожусь, чтобы ты не стал все прятать в себе, чтобы не закрылся от меня…
– Не тревожься, – ответил юноша. – Для выражения эмоций у меня всегда есть перо, чернила и тетрадь.
– И верно… – помедлив, пробормотала Елизавета Алексеевна. – Как я могу забыть…
Видя, что ей неприятно упоминание тетради со стихами, Миша отвернулся к окну прямо над письменным столом, обтянутым сукном. Снаружи, наконец, распогодилось: утром лил дождь, бесчинствовал ветер, но теперь природа постепенно успокаивалась, выглянуло солнце, и о былом буйстве стихии напоминала лишь прохлада да клочки серых туч, хаотично разбросанные по небу. Юноша подумал, что ему неистово хочется оказаться как можно дальше от усадьбы Середниково и всех мирских переживаний – от бабушкиного недовольства, связанного с его увлечением поэзией, от Наташи, которая заставила его сердце пылать, сначала грея душу робкой надеждой, а позже беспощадно истребляя веру в счастливый исход…
«Мне бы воспарить над всем этим, над всей этой суетой – каким-нибудь необыкновенным, чудесным образом…»
– Если хочешь, я останусь, – сказала Елизавета Алексеевна, заметив, что внук снова погрузился в думы.
– Наверное, не стоит, – мягко, насколько только мог, ответил Миша. – Я один побуду немного… ладно?
Бабушка кивнула, напоследок провела рукой по непослушным волосам внука и, поднявшись с кровати, побрела к двери. На пороге Елизавета Алексеевна оглянулась.
– Ах, Мишель!.. – произнесла она, и голос ее при этих словах едва заметно задрожал, точно пламя свечи на сквозняке. – И ведь это ты сейчас только в самом начале пути! А сколько всего еще будет…
Внук неуверенно улыбнулся и промолчал. Качая головой, бабушка закрыла дверь. Наслаждаясь тишиной, гармонирующей с пустотой, поселившейся у него внутри, Миша вдруг услышал, как застучали по дороге копыта и заржали кони. Поднявшись с кровати, юноша подошел к окну и выглянул во двор: старенький почтовый экипаж, которым было доставлено прощальное послание Натальи, медленно, «вразвалочку», со скрипом вращая погнутыми колесами, катился к воротам усадьбы.
Обрывки этого злосчастного письма уже, наверное, разметал по усадьбе ветер, равнодушный к влюбленным душам. Впрочем, Миша помнил каждую строчку, каждую букву, каждую запятую, оброненную изящной рукой Натальи Федоровны к месту и нет…
«Прошу оставить всякие попытки… мне это неприятно… взываю к вашему сознанию и чести, Мишель…»
Вдруг юноша встрепенулся и оглянулся через плечо на стол. Медленно, точно боясь спугнуть норовистую музу, он отступил назад, сел на стул, придвинулся… и замер. Со стороны могло показаться, что он все еще прислушивается к улице, дожидаясь, когда же проклятый экипаж окончательно удалится из усадьбы. Иной бы решил, что Миша рассматривает древнее потресканное пресс-папье, которое напоминало старый одинокий паром, плывущий по морю бумаг. Но на самом деле юноша подбирал нужные слова – губы его едва заметно шевелились. Наконец, кивнув, будто в знак согласия с незримым советчиком, он раскрыл толстую синюю тетрадь, макнул перо в чернильницу и вывел на чистом листе:
«Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала…»
* * *
1834
– Скажи, Монго, а какой он – Лермонтов? – спросил Петр Алексеевич Уваров, глядя в окно кареты.
Экипаж, который вез их из самого сердца Петербурга, из дома Столыпиных, уже заехал на территорию усадьбы Ивановых и теперь неторопливо приближался к парадному входу. На крыльце, пританцовывая, чтобы не замерзнуть, дежурил одинокий лакей в праздничном сюртуке; балкон второго этажа пустовал – желающих подышать свежим воздухом в этот декабрьский вечер по природным причинам не находилось. Из труб на покатой крыше валил сизый дым – видимо, слуги едва успевали подкидывать дрова в камины.
– Мишеля сложно описать, – подумав, ответил Столыпин. – Каждый видит его по-разному. Скажу тебе, какой он для меня, и ты, возможно, разочаруешься, потому как будешь ждать слишком многого. Или, наоборот, удивишься, до чего тускло я его описал. Так что не жди от меня рассказов, тем более что мы уже почти на месте и скоро встретимся с ним.
– Ну, хорошо, – легко согласился Уваров.
Он заметно нервничал: будучи затворником по своей природе, Петр Алексеевич до жути не любил выходить в свет, тем более – посещать балы. Но ради встречи с Лермонтовым Уваров был готов на многое – даже проигнорировать увещевания кузины Анны, считавшей Мишеля самодовольным фигляром. Стихи, которыми Монго на правах друга детства любезно делился с Петром Алексеевич, постоянно звучали в его голове; изо дня в день он припоминал то одну строку, то другую и испытывал подлинную радость, когда находил в уже зазубренных оборотах некий смысл, ранее ускользавший.
«Безумно интересно, каким он окажется».
Лакей, неуклюже покачиваясь, сошел к карете и распахнул дверь. Внутрь тут же ворвался холодный ветер, заставив Уварова зябко поежиться. Монго поднял воротник, дабы защитить шею.
– Добро пожаловать в усадьбу Ивановых, господа, – хрипло сказал лакей, худой, бледный и чуть сгорбленный мужичок лет около сорока с тонкими бакенбардами. – Хозяева рады вашему визиту…
Он закашлялся – видно, болел. Уваров сделал вид, что не обратил на это внимания, спустился на землю и, дождавшись друга, вместе с ним пошел ко входу. Лакей торопливо засеменил вперед них, дважды едва не упав на скользких ступеньках, но удержав равновесие, схватился за резные ручки и распахнул двери, позволив шуму, царившему внутри, накрыть гостей с головой. Петр Алексеевич от неожиданности вздрогнул и даже замер на пару мгновений, будто в сомнении – а не вернуться ли назад, в экипаж? Однако же под удивленным взором Монго быстро взял себя в руки и, выдавив улыбку, все-таки переступил через порог и устремился вглубь дома.
Максим Привезенцев
Книги о путешествиях #4
Михаил Юрьевич Лермонтов был не только особенным поэтом, но и личностью выдающегося масштаба. Человек, чей род имел шотландские корни. Истоки рода, места, где много веков назад жили предки поэта, решил исследовать Максим Привезенцев. Он отправился в мотопутешествие по Шотландии. Максим пытается найти ответ на вопросы: мог ли Лермонтов кардинально изменить свою жизнь, окажись он в Шотландии? Что случилось бы с Лермонтовым, окажись он в 1841-ом году в горах Шотландии, а не Кавказа? Параллельно в книге развивается сюжет, раскрывающий главные события в жизни Лермонтова, приводящие Лермонтова к фатальной развязке.
1831 июня 11 дня
Миша Лермонтов медленно поднялся вверх по лестнице, вошел в комнату на втором этаже и, закрыв за собой дверь, побрел к кровати.
«Глупый! – думал он про себя. – Чего, интересно, ты ждал? На что надеялся?..»
Усевшись на перину, Миша придвинулся к стене, оперся на нее спиной. Наверное, ему бы надлежало горевать, но он ощущал внутри себя лишь странную пустоту – будто из него вынули нечто важное, но вынули нечаянно, безо всякого намерения причинить боль.
«Хотя… может, я просто этого еще не понял?»
– Мишель? – послышался из-за двери женский голос. – Я могу войти?
Юноша промолчал, рассеянно глядя перед собой. Мысли путались в голове, – осознание случившегося по-прежнему не наступало.
– Может, все-таки ответишь? – нетерпеливо спросили из-за двери.
Юноша вздрогнул, и покусав губу, сказал:
– Прости, задумался…
– Так я войду?
– Конечно!
Дверь открылась, почти бесшумно ступая по паркету зашла Елизавета Алексеевна. Ей не было и шестидесяти, и казалась она значительно моложе своих лет; только две детали могли выдавать истинный возраст – белоснежно-седые локоны, выглядывающие из-под чепца, и усталые, выцветшие глаза, некогда бесконечно зеленые, точно луговая трава, пропитанная утренней росой.
– Так что случилось, Мишель? – участливо спросила бабушка.
Юноша посмотрел на нее исподлобья, и она против воли на мгновение скривила губы. Тому виной служили его красивые карие глаза – наследие рода «Лермантов», столь нелюбимого Елизаветой Алексеевной. Ничего во внешности внука больше так не смущало бабушку, хотя, вот ведь ирония, это была единственная приятная деталь во всем портрете юноши. Огромная голова, широкий лоб и острые скулы, вздернутый кверху нос… Миша не был красив, но, поскольку все свои характерные черты унаследовал от покойной матери, Елизавета Алексеевна любила их в нем – они напоминали ей о дочери.
Сделав вид, что не заметил мимолетной гримасы бабушки, Миша пожал плечами. Елизавета Алексеевна, шумно вздохнув, подошла к кровати и опустилась на перину рядом с внуком. Некоторое время они молчали – бабушка смотрела на Мишу, а тот – в сторону, избегая ее взгляда. Говорить юноша не желал; собственно, он вообще ничего не желал в те минуты – кроме, разве что, не оставаться в комнате наедине со своими мыслями. Посидеть бы еще вот так, не издавая ни звука, но понимая, что подле тебя есть кто-то еще, слышать дыхание, улавливать взор…
– Это все из-за Натальи? – спросила Елизавета Алексеевна.
Миша нехотя покосился в сторону бабушки, снова неопределенно повел плечом, но вопрос ее, кажется, был скорей риторический, поскольку она тут же с теплой улыбкой произнесла:
– Ну полноте, мой соколик! Наталия, конечно же, мила и хороша собой, но не обязательно ведь она – та самая, единственная, по которой стоит лить слезы?
– А я и не лью, – тихо, но без тени волнения ответил внук.
Елизавета Алексеевна коснулась его плеча:
– Я вижу, мой черноокий. И знаю, что не будешь, ты не из таких… но тревожусь, чтобы ты не стал все прятать в себе, чтобы не закрылся от меня…
– Не тревожься, – ответил юноша. – Для выражения эмоций у меня всегда есть перо, чернила и тетрадь.
– И верно… – помедлив, пробормотала Елизавета Алексеевна. – Как я могу забыть…
Видя, что ей неприятно упоминание тетради со стихами, Миша отвернулся к окну прямо над письменным столом, обтянутым сукном. Снаружи, наконец, распогодилось: утром лил дождь, бесчинствовал ветер, но теперь природа постепенно успокаивалась, выглянуло солнце, и о былом буйстве стихии напоминала лишь прохлада да клочки серых туч, хаотично разбросанные по небу. Юноша подумал, что ему неистово хочется оказаться как можно дальше от усадьбы Середниково и всех мирских переживаний – от бабушкиного недовольства, связанного с его увлечением поэзией, от Наташи, которая заставила его сердце пылать, сначала грея душу робкой надеждой, а позже беспощадно истребляя веру в счастливый исход…
«Мне бы воспарить над всем этим, над всей этой суетой – каким-нибудь необыкновенным, чудесным образом…»
– Если хочешь, я останусь, – сказала Елизавета Алексеевна, заметив, что внук снова погрузился в думы.
– Наверное, не стоит, – мягко, насколько только мог, ответил Миша. – Я один побуду немного… ладно?
Бабушка кивнула, напоследок провела рукой по непослушным волосам внука и, поднявшись с кровати, побрела к двери. На пороге Елизавета Алексеевна оглянулась.
– Ах, Мишель!.. – произнесла она, и голос ее при этих словах едва заметно задрожал, точно пламя свечи на сквозняке. – И ведь это ты сейчас только в самом начале пути! А сколько всего еще будет…
Внук неуверенно улыбнулся и промолчал. Качая головой, бабушка закрыла дверь. Наслаждаясь тишиной, гармонирующей с пустотой, поселившейся у него внутри, Миша вдруг услышал, как застучали по дороге копыта и заржали кони. Поднявшись с кровати, юноша подошел к окну и выглянул во двор: старенький почтовый экипаж, которым было доставлено прощальное послание Натальи, медленно, «вразвалочку», со скрипом вращая погнутыми колесами, катился к воротам усадьбы.
Обрывки этого злосчастного письма уже, наверное, разметал по усадьбе ветер, равнодушный к влюбленным душам. Впрочем, Миша помнил каждую строчку, каждую букву, каждую запятую, оброненную изящной рукой Натальи Федоровны к месту и нет…
«Прошу оставить всякие попытки… мне это неприятно… взываю к вашему сознанию и чести, Мишель…»
Вдруг юноша встрепенулся и оглянулся через плечо на стол. Медленно, точно боясь спугнуть норовистую музу, он отступил назад, сел на стул, придвинулся… и замер. Со стороны могло показаться, что он все еще прислушивается к улице, дожидаясь, когда же проклятый экипаж окончательно удалится из усадьбы. Иной бы решил, что Миша рассматривает древнее потресканное пресс-папье, которое напоминало старый одинокий паром, плывущий по морю бумаг. Но на самом деле юноша подбирал нужные слова – губы его едва заметно шевелились. Наконец, кивнув, будто в знак согласия с незримым советчиком, он раскрыл толстую синюю тетрадь, макнул перо в чернильницу и вывел на чистом листе:
«Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала…»
* * *
1834
– Скажи, Монго, а какой он – Лермонтов? – спросил Петр Алексеевич Уваров, глядя в окно кареты.
Экипаж, который вез их из самого сердца Петербурга, из дома Столыпиных, уже заехал на территорию усадьбы Ивановых и теперь неторопливо приближался к парадному входу. На крыльце, пританцовывая, чтобы не замерзнуть, дежурил одинокий лакей в праздничном сюртуке; балкон второго этажа пустовал – желающих подышать свежим воздухом в этот декабрьский вечер по природным причинам не находилось. Из труб на покатой крыше валил сизый дым – видимо, слуги едва успевали подкидывать дрова в камины.
– Мишеля сложно описать, – подумав, ответил Столыпин. – Каждый видит его по-разному. Скажу тебе, какой он для меня, и ты, возможно, разочаруешься, потому как будешь ждать слишком многого. Или, наоборот, удивишься, до чего тускло я его описал. Так что не жди от меня рассказов, тем более что мы уже почти на месте и скоро встретимся с ним.
– Ну, хорошо, – легко согласился Уваров.
Он заметно нервничал: будучи затворником по своей природе, Петр Алексеевич до жути не любил выходить в свет, тем более – посещать балы. Но ради встречи с Лермонтовым Уваров был готов на многое – даже проигнорировать увещевания кузины Анны, считавшей Мишеля самодовольным фигляром. Стихи, которыми Монго на правах друга детства любезно делился с Петром Алексеевич, постоянно звучали в его голове; изо дня в день он припоминал то одну строку, то другую и испытывал подлинную радость, когда находил в уже зазубренных оборотах некий смысл, ранее ускользавший.
«Безумно интересно, каким он окажется».
Лакей, неуклюже покачиваясь, сошел к карете и распахнул дверь. Внутрь тут же ворвался холодный ветер, заставив Уварова зябко поежиться. Монго поднял воротник, дабы защитить шею.
– Добро пожаловать в усадьбу Ивановых, господа, – хрипло сказал лакей, худой, бледный и чуть сгорбленный мужичок лет около сорока с тонкими бакенбардами. – Хозяева рады вашему визиту…
Он закашлялся – видно, болел. Уваров сделал вид, что не обратил на это внимания, спустился на землю и, дождавшись друга, вместе с ним пошел ко входу. Лакей торопливо засеменил вперед них, дважды едва не упав на скользких ступеньках, но удержав равновесие, схватился за резные ручки и распахнул двери, позволив шуму, царившему внутри, накрыть гостей с головой. Петр Алексеевич от неожиданности вздрогнул и даже замер на пару мгновений, будто в сомнении – а не вернуться ли назад, в экипаж? Однако же под удивленным взором Монго быстро взял себя в руки и, выдавив улыбку, все-таки переступил через порог и устремился вглубь дома.