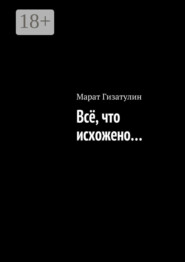По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чирчик впадает в Средиземное море, или Однажды бывший советский пролетарий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Далёкая невеста тоже нервничает и ждёт не дождётся отпуска, чтобы навестить жениха. Наконец, отпуск получен, и долгожданная встреча состоялась. Они целый день гуляли по Москве, не могли наговориться и насмотреться друг на друга. И только одна мысль не давала покоя пролетарию – куда он устроит свою невесту переночевать? Ведь от своей съёмной квартиры он уже отказался, а определиться в гостиницу – это всё равно что… всё равно что… Да в те времена проще по скайпу было позвонить, чем получить гостиничный номер! Не говоря уж о том, что никто их вместе не поселит без штампа в паспорте. Не говоря уже о том, что местная невеста ждёт его у себя дома!
Вот так легкомысленный и бессовестный человек может сам себя в безвыходное положение поставить. И мне его ничуть не жалко, проходимца!
Тем временем вечерело. Нужно было что-то делать – например, пристроиться с иногородней невестой в чьём-нибудь подъезде. Предварительно позвонив по автомату местной невесте с новостью, что он срочно вынужден отбыть на совещание Малого Совнаркома.
Но наш мудрый пролетарий не пошёл по такому тривиальному пути, как ночёвка любимой невесты на вокзале или в подъезде, да ещё отягчённая ложью другой невесте. Нет, пролетарий поступил по-умному – он просто повёл ночевать иногороднюю невесту к местной.
Для девушек этот пролетарский сюрприз почему-то не стал большой неожиданностью. Невесты с видимым удовольствием познакомились.
Были подчёркнуто вежливы и предупредительны друг с другом. Хозяйка дома сама постелила гостье и неизвестно чьему жениху лучшую кровать в доме. Сама легла в другой комнате. В душе пролетария скребли когтями неведомые ему доселе чувства, одно из которых люди называют стыдом. Названий других чувств он не знал, но они тоже больно царапали. Пока шли приготовления ко сну, он малодушно курил в подъезде, кляня себя за чрезмерный ум и прочие качества. В квартиру идти не хотелось, мечталось свернуться калачиком на коврике под какой-нибудь из дверей. Думалось, что вот именно коврик под дверью и есть лучшее место отныне и навсегда для столь непомерно умного пролетария.
Но делать нечего – пришлось всё-таки возвращаться в квартиру, вымучив казавшуюся ему жизнерадостной улыбку, адресованную обеим невестам. Было уже очень поздно, и чертовски уставший от целого дня прогулок и переживаний пролетарий валился с ног. Он добрёл до гостевой кровати и лёг, попытавшись обнять невесту после долгой разлуки. Однако та не далась, а наоборот, столкнула жениха с кровати и велела ему идти в спальню другой невесты. Совсем осоловевший от усталости пролетарий безропотно отправился, куда ему велели. Но и там он не нашёл тёплого приёма:
– Как тебе не стыдно! К тебе девушка издалека приехала после долгой разлуки, а ты!.. Возвращайся немедленно!
Пролетарий, как телёнок, ищущий между двух коров мамкино вымя, послушно повернулся и пошёл. Но снова был отвергнут. Так он и ходил некоторое время из одной спальни в другую, пока не пристроился на полу в коридорчике, поскольку комнат в квартире было всего две.
Ой, что-то осточертел мне этот пролетарий бывший – дальше некуда! О нём писать – только настроение себе портить. Лучше бы я про Дина Рида остался писать.
В детстве у меня была большая его пластинка со множеством песен. Запомнились две – «Элизабет» и «Хава нагила». Надо скорее что-нибудь послушать, лучше всего последнюю. Песней надо заканчивать любую работу. И радоваться. Тем более сама песня говорит: «Давайте радоваться». И я согласен, давайте-давайте! И американский дурачишка пусть порадуется, что мы его помним. Он всё-таки неплохо пел, этот Динушка.
А то там эндорфинов каких-то не хватает, говорят. Или белофинов… Или краснофинов, хотя встречались мне в жизни и синефины. Опять не в ту степь понесло…
Всё-всё, побоку всё, и пролетарий с его дефицитом эндорфинов в первую очередь. Будем петь и радоваться! Это много приятнее, чем про какого-то безмозглого и бестолкового пролетария писать. Я уж не говорю про читать.
Хава нагила, плииз!
Красота человеческая
Однажды бывший советский пролетарий узнал, что человеческая красота очень странная штука – очень непостоянная. Не в том смысле, что с годами красота теряется, это тоже не всегда бывает. Доводилось мне видеть, как не слишком симпатичный в молодости человек с годами вдруг преображается в писаного красавца. Взять хотя бы того же Аркадия Райкина.
Но я о другом хотел сказать – бывает встретишь красивого человека и любуешься им, пока он не заговорит. Тогда только видишь, что он безобразен.
Бывает и по-другому.
Со второго семестра начинался новый предмет – физика. Бывший советский пролетарий в прекрасном настроении вошёл в аудиторию и сел в первый ряд. Не спеша, с удовольствием выложил перед собой большую толстую тетрадь для конспектов, ручку и карандаш. Сколько его знаю, у него всегда так: начало любого дела вызывает приступ вдохновения и надежду, что вот теперь-то он всё будет делать как надо. Если с первой же лекции внимательно слушать, аккуратно всё записывать, а главное не пропускать занятия, то всё будет в порядке. К сожалению, человек несовершенен – он почти всегда знает, как надо, но так, как надо, никогда не получается. С каждым новым предметом начинаешь новую тетрадь, но в ней так и остаются исписанными всего несколько страничек. Сначала одну лекцию пропустишь, потом другую, а там, глядишь, уже и вовсе делать нечего в институте – всё равно ничего не понятно.
Плоды такого неправильного подхода к учёбе бывший гегемон как раз теперь и пожинал. Сейчас, перед самой первой лекцией по физике, праздник его был несколько омрачён «хвостом» по математике, тянувшимся с предыдущего семестра.
Помнится мне, полгода назад с математикой он тоже был настроен очень по-боевому, тоже тетрадку принёс, ручку… Но потом как-то так получилось, что не пришёл, кажется, уже на следующую лекцию. Не знаю уж, какие важные дела его тогда отвлекли, – то ли проспал, то ли встретил кого, а может, просто выпить с утра захотелось. Следующую лекцию опять пропустил. Потом-то он спохватился, вспомнил о своих благих намерениях, пришёл опять с тетрадкой, с ручкой… Но было поздно. Что-то пытался конспектировать, ничего не понимая, а силясь понять, не успевал записывать. Плюнул тогда на всё это мой бестолковый сокурсник и больше на лекции не ходил. Нет, ну, не то чтобы совсем плюнул, – всё время собирался пойти, не на эту, так на следующую. Собирался догнать, попросить кого-нибудь, чтобы объяснили, но не успел. Семестр закончился, наступила сессия, и он, конечно, даже зачёта не получил.
Из института бывшего пролетария не выгнали. Потому что он не после школы к ним пришёл, а «из числа передовых рабочих и крестьян». Была такая форма обучения – не с первого курса, а с нулевого. Но как с передовыми пролетариями ни носились, как ни нянчились, всё равно до защиты диплома из нашего потока добрались процентов десять, не больше. Всё-таки перерыв после школы, работа на заводе или служба в армии как-то расхолаживают к учёбе.
Математику пролетарий таки сдал, правда, сильно позже других. Немного забегу вперёд, чтобы рассказать, как это было.
С чистой совестью пропуская какую-то очередную лекцию, он открыл дверь на кафедру математики и сразу увидел своего преподавателя. Смело подошёл к нему – так, мол, и так, вот пришёл сдавать экзамен. Тот посмотрел на соискателя с интересом и дружелюбно сказал, что не помнит почему-то такого студента. Бывший советский пролетарий, а ныне советский студент оценил шутку преподавателя и так же дружелюбно возразил, что зато он хорошо помнит, как тот читал у нас лекции.
– И как же моя фамилия? – так же доброжелательно улыбаясь, спросил благодушный преподаватель. Тут все присутствующие в помещении оставили свои дела и обратили свои взоры на беседующих, предвкушая развлечение.
Расценив это как первый экзаменационный вопрос, студент, распираемый гордостью за свои математические знания, чётко выпалил:
– Анатолий Иванович Кудрявцев!
Кафедра математики дружно взорвалась хохотом. После некоторой паузы растерявшийся студент решил, что его хотят сбить с толку, и стал тупо настаивать, что видит перед собой Кудрявцева. Это подлило масла в огонь уже затухавшего было веселья. Он начинал понимать, какая трагическая произошла ошибка, прямо как в каком-нибудь заезженном анекдоте, и в ужасе, не найдя ничего лучшего, продолжал мямлить своё. Однако долго гнуть эту линию было нельзя, его могли принять за законченного кретина. И нерадивый студент, не отказавшись, впрочем, от своего утверждения окончательно, стал вкраплять в своё лепетание фразы о том, что сидел на лекциях далеко, зрение у него слабое, что всё внимание его было сосредоточено на доске… Но эти объяснения ещё больше веселили публику, хотя зрение у бывшего, как и у меня, действительно неважное и ничего смешного в этом я не нахожу.
– Я – Добровольский! – с трудом отсмеявшись, гордо заявил мой собеседник, и это собственное заявление снова задушило его смехом. Бывшего гегемона такое безудержное веселье уже начало немного раздражать – ну, перепутал человек, с кем не бывает. Математика всё же – не клоунада! Серьёзнее надо быть!
Наконец, все успокоились, и кто-то сказал:
– Ваше счастье, юноша, что Кудрявцева сейчас здесь нет. Но он вот-вот придёт, подождите его.
Окончательно сконфуженный студент присел за чей-то стол и стал ждать. Стыдно было, конечно, но доброжелательные весёлые взгляды в его сторону вселяли немного бодрости.
Наконец вошёл тот, внешность кого он так бездарно перепутал. Вошедшего встретили очень радостно – думаю, не так, как обычно.
– Здравствуйте, Анатолий Иванович! – горячо поприветствовал его кто-то, поглядывая на жаждущего сдать экзамен. Но тот благородства не оценил, ему эти подсказки были ни к чему, он и сам теперь видел, что это пришёл настоящий Кудрявцев. Они, конечно, с Добровольским совсем не были похожи. Теперь, увидев их вместе, бедный студент удивлялся, как это их можно перепутать. Но в его оправдание могу сказать, что эти преподаватели имели одинаковую комплекцию и главное – оба очкарики.
Бывший пролетарий подошёл к новому Кудрявцеву, представился и в гнетущей тишине изложил цель визита. Все сосредоточенно изучали бумаги на своих столах, прислушиваясь к диалогу учителя с учеником. Кудрявцев, полный добродушный увалень (такой же, замечу ещё раз, как и Добровольский), быстро выдал моему герою экзаменационный билет, посадил за свой стол и ушёл, попросив коллег приглядывать за забывчивым студентом. Как только Кудрявцев вышел, коллеги бросились к студенту, и через десять минут он готов был отвечать.
Так вот, этот знаменательный экзамен случится чуть позже, а сейчас наш студент, пока ещё с грузным «хвостом» по математике, был очень серьёзно настроен. Сидя в центре, в первом ряду аудитории-амфитеатра, пролетарий не участвовал в общем трёпе сокурсников. Готовился морально. Тем более что нас заранее предупреждали старшие товарищи: лектор по физике – это что-то! Очень знающий и любящий свой предмет, очень требовательный и вообще очень необычный. На расспросы, что же в нём необычного, отвечали кратко:
– Увидите!
И эта краткость интриговала – что же в нём может быть такого необычного, что даже рассказать нельзя.
Размышляя об этом и рассматривая свою девственную тетрадь и инструменты, призванные лишить её девственности, мой герой не заметил момента, всё изменившего. По аудитории вдруг прокатилось дружное глухое «ах!» Сидевший в авангарде студент из числа передовых рабочих и крестьян поглядел назад, но оттуда все широко раскрытыми от ужаса глазами смотрели вперёд, за него. Тогда он тоже обратил свой взор к кафедре и увидел, что к ней идёт высокий несуразный человек в изрядно помятых брюках не по размеру, в застиранной клетчатой рубашке и в сандалиях. Это в середине зимы-то!
Я, хоть и не сидел, как мой пролетарий, в первом ряду, тоже был сражён внешностью физика, и сейчас мне даже кажется, что и сандалии у нового лектора тогда были на босу ногу.
Но не обувь больше всего поражала при взгляде на этого человека, а его голова. Она была огромная, абсолютно лысая, с лицом цвета печёной картошки и с вывернутыми синими губами глубоко пьющего человека. Эта голова была невероятна и сама по себе, но носитель её ещё как будто специально подчёркивал её невероятность. По бокам её и сзади до самых плеч свисали длинные чёрные патлы прямых негнущихся волос, напоминавших проволоку, и эти волосы были настолько неестественными, чуждыми этой голове, что приведённое выше определение «абсолютно лысая» казалось единственно возможным. Потом с более близкого расстояния я увидел, что волосы действительно были ненастоящими, они были приклеены к голове каким-то клеем.
Новый преподаватель представился очень низким рокочущим голосом и широко улыбнулся. Возглас удивления и ужаса вновь прокатился по рядам – такой жуткой была его улыбка. Этот человек с успехом мог бы играть в триллерах без грима, чем невероятно сократил бы расходы кинематографистов. Но тогда в нашей стране ничего не знали о таких фильмах, и богом данный дар пропадал зря.
Не замечая нашего смятения, физик начал читать лекцию. Правда предварил её заявлением, что если мы не будем ходить на его лекции, нам на сессии очень туго придётся, потому что того, что он расскажет, мы ни в одном учебнике не найдём.
Ну да, ну да, все вы так говорите…
Лекцию он читал с нескрываемым удовольствием, как будто анекдот рассказывал. Поражаясь каким-то самим же собой излагаемым сведениям, он не мог сдержаться и временами всхохатывал, отчего его лицо становилось ещё выразительней. Видно было, что он так восторгается своей физикой, что не замечает собственного уродства. А может быть, ему казалось, что ослепительное великолепие того, что он нам говорит, с лихвой перекрывает всё остальное.
На пролетария новый преподаватель произвёл неизгладимое впечатление. И, видимо, чтобы избежать нервного срыва, на следующую лекцию по физике мой друг не пошёл.
Прошло время, и прогулов у бывшего пролетария набралось достаточно, чтобы признаться самому себе и потихоньку мне, что он уже мало что понимает. Давно уже он не сидел в первых рядах, а в тех нечастых случаях, когда всё-таки забредал на лекцию по физике, они со своим закадычным дружком Стефановичем старались усесться где-нибудь подальше, на «камчатке», чтобы не мешать никому и чтобы им никто не мешал. А помешать было чему: иногда они приходили с бутылочкой портвешка. В то время его как раз начали продавать в бутылках для шампанского – их прозвали «противотанковыми». «Кавказ» это был или «Агдам» – неважно, но, кроме приятных ощущений (всё-таки 0,75, а не 0,7) появились и неприятные – тяжесть. Тогда ещё не тяжесть от похмелья, – просто бутылка была тяжёлая.
Я смотрел на этих двух уродов с портвейном с отвращением.
И вот сидят они как-то со Стефановичем тихо-мирно на «камчатке», выпивают из стакана, предусмотрительно захваченного из газировочного автомата, никого не трогают, тихо сидят. Но недолго.
Со Стефановичем вообще долго тихо не посидишь, даже и без портвешка. Должен заметить, что этот деятель был тогда очень умным человеком (может, и сейчас он такой, я много лет его не видел), и это их с пролетарием очень сблизило. Не в том смысле, что пролетарий тоже умный, а просто ему всегда нравились умные люди, может, поэтому у нас с пролетарием близкой дружбы не получилось. Но Стефанович, надо сказать, был не просто умный – он был гениальный.
Вот так легкомысленный и бессовестный человек может сам себя в безвыходное положение поставить. И мне его ничуть не жалко, проходимца!
Тем временем вечерело. Нужно было что-то делать – например, пристроиться с иногородней невестой в чьём-нибудь подъезде. Предварительно позвонив по автомату местной невесте с новостью, что он срочно вынужден отбыть на совещание Малого Совнаркома.
Но наш мудрый пролетарий не пошёл по такому тривиальному пути, как ночёвка любимой невесты на вокзале или в подъезде, да ещё отягчённая ложью другой невесте. Нет, пролетарий поступил по-умному – он просто повёл ночевать иногороднюю невесту к местной.
Для девушек этот пролетарский сюрприз почему-то не стал большой неожиданностью. Невесты с видимым удовольствием познакомились.
Были подчёркнуто вежливы и предупредительны друг с другом. Хозяйка дома сама постелила гостье и неизвестно чьему жениху лучшую кровать в доме. Сама легла в другой комнате. В душе пролетария скребли когтями неведомые ему доселе чувства, одно из которых люди называют стыдом. Названий других чувств он не знал, но они тоже больно царапали. Пока шли приготовления ко сну, он малодушно курил в подъезде, кляня себя за чрезмерный ум и прочие качества. В квартиру идти не хотелось, мечталось свернуться калачиком на коврике под какой-нибудь из дверей. Думалось, что вот именно коврик под дверью и есть лучшее место отныне и навсегда для столь непомерно умного пролетария.
Но делать нечего – пришлось всё-таки возвращаться в квартиру, вымучив казавшуюся ему жизнерадостной улыбку, адресованную обеим невестам. Было уже очень поздно, и чертовски уставший от целого дня прогулок и переживаний пролетарий валился с ног. Он добрёл до гостевой кровати и лёг, попытавшись обнять невесту после долгой разлуки. Однако та не далась, а наоборот, столкнула жениха с кровати и велела ему идти в спальню другой невесты. Совсем осоловевший от усталости пролетарий безропотно отправился, куда ему велели. Но и там он не нашёл тёплого приёма:
– Как тебе не стыдно! К тебе девушка издалека приехала после долгой разлуки, а ты!.. Возвращайся немедленно!
Пролетарий, как телёнок, ищущий между двух коров мамкино вымя, послушно повернулся и пошёл. Но снова был отвергнут. Так он и ходил некоторое время из одной спальни в другую, пока не пристроился на полу в коридорчике, поскольку комнат в квартире было всего две.
Ой, что-то осточертел мне этот пролетарий бывший – дальше некуда! О нём писать – только настроение себе портить. Лучше бы я про Дина Рида остался писать.
В детстве у меня была большая его пластинка со множеством песен. Запомнились две – «Элизабет» и «Хава нагила». Надо скорее что-нибудь послушать, лучше всего последнюю. Песней надо заканчивать любую работу. И радоваться. Тем более сама песня говорит: «Давайте радоваться». И я согласен, давайте-давайте! И американский дурачишка пусть порадуется, что мы его помним. Он всё-таки неплохо пел, этот Динушка.
А то там эндорфинов каких-то не хватает, говорят. Или белофинов… Или краснофинов, хотя встречались мне в жизни и синефины. Опять не в ту степь понесло…
Всё-всё, побоку всё, и пролетарий с его дефицитом эндорфинов в первую очередь. Будем петь и радоваться! Это много приятнее, чем про какого-то безмозглого и бестолкового пролетария писать. Я уж не говорю про читать.
Хава нагила, плииз!
Красота человеческая
Однажды бывший советский пролетарий узнал, что человеческая красота очень странная штука – очень непостоянная. Не в том смысле, что с годами красота теряется, это тоже не всегда бывает. Доводилось мне видеть, как не слишком симпатичный в молодости человек с годами вдруг преображается в писаного красавца. Взять хотя бы того же Аркадия Райкина.
Но я о другом хотел сказать – бывает встретишь красивого человека и любуешься им, пока он не заговорит. Тогда только видишь, что он безобразен.
Бывает и по-другому.
Со второго семестра начинался новый предмет – физика. Бывший советский пролетарий в прекрасном настроении вошёл в аудиторию и сел в первый ряд. Не спеша, с удовольствием выложил перед собой большую толстую тетрадь для конспектов, ручку и карандаш. Сколько его знаю, у него всегда так: начало любого дела вызывает приступ вдохновения и надежду, что вот теперь-то он всё будет делать как надо. Если с первой же лекции внимательно слушать, аккуратно всё записывать, а главное не пропускать занятия, то всё будет в порядке. К сожалению, человек несовершенен – он почти всегда знает, как надо, но так, как надо, никогда не получается. С каждым новым предметом начинаешь новую тетрадь, но в ней так и остаются исписанными всего несколько страничек. Сначала одну лекцию пропустишь, потом другую, а там, глядишь, уже и вовсе делать нечего в институте – всё равно ничего не понятно.
Плоды такого неправильного подхода к учёбе бывший гегемон как раз теперь и пожинал. Сейчас, перед самой первой лекцией по физике, праздник его был несколько омрачён «хвостом» по математике, тянувшимся с предыдущего семестра.
Помнится мне, полгода назад с математикой он тоже был настроен очень по-боевому, тоже тетрадку принёс, ручку… Но потом как-то так получилось, что не пришёл, кажется, уже на следующую лекцию. Не знаю уж, какие важные дела его тогда отвлекли, – то ли проспал, то ли встретил кого, а может, просто выпить с утра захотелось. Следующую лекцию опять пропустил. Потом-то он спохватился, вспомнил о своих благих намерениях, пришёл опять с тетрадкой, с ручкой… Но было поздно. Что-то пытался конспектировать, ничего не понимая, а силясь понять, не успевал записывать. Плюнул тогда на всё это мой бестолковый сокурсник и больше на лекции не ходил. Нет, ну, не то чтобы совсем плюнул, – всё время собирался пойти, не на эту, так на следующую. Собирался догнать, попросить кого-нибудь, чтобы объяснили, но не успел. Семестр закончился, наступила сессия, и он, конечно, даже зачёта не получил.
Из института бывшего пролетария не выгнали. Потому что он не после школы к ним пришёл, а «из числа передовых рабочих и крестьян». Была такая форма обучения – не с первого курса, а с нулевого. Но как с передовыми пролетариями ни носились, как ни нянчились, всё равно до защиты диплома из нашего потока добрались процентов десять, не больше. Всё-таки перерыв после школы, работа на заводе или служба в армии как-то расхолаживают к учёбе.
Математику пролетарий таки сдал, правда, сильно позже других. Немного забегу вперёд, чтобы рассказать, как это было.
С чистой совестью пропуская какую-то очередную лекцию, он открыл дверь на кафедру математики и сразу увидел своего преподавателя. Смело подошёл к нему – так, мол, и так, вот пришёл сдавать экзамен. Тот посмотрел на соискателя с интересом и дружелюбно сказал, что не помнит почему-то такого студента. Бывший советский пролетарий, а ныне советский студент оценил шутку преподавателя и так же дружелюбно возразил, что зато он хорошо помнит, как тот читал у нас лекции.
– И как же моя фамилия? – так же доброжелательно улыбаясь, спросил благодушный преподаватель. Тут все присутствующие в помещении оставили свои дела и обратили свои взоры на беседующих, предвкушая развлечение.
Расценив это как первый экзаменационный вопрос, студент, распираемый гордостью за свои математические знания, чётко выпалил:
– Анатолий Иванович Кудрявцев!
Кафедра математики дружно взорвалась хохотом. После некоторой паузы растерявшийся студент решил, что его хотят сбить с толку, и стал тупо настаивать, что видит перед собой Кудрявцева. Это подлило масла в огонь уже затухавшего было веселья. Он начинал понимать, какая трагическая произошла ошибка, прямо как в каком-нибудь заезженном анекдоте, и в ужасе, не найдя ничего лучшего, продолжал мямлить своё. Однако долго гнуть эту линию было нельзя, его могли принять за законченного кретина. И нерадивый студент, не отказавшись, впрочем, от своего утверждения окончательно, стал вкраплять в своё лепетание фразы о том, что сидел на лекциях далеко, зрение у него слабое, что всё внимание его было сосредоточено на доске… Но эти объяснения ещё больше веселили публику, хотя зрение у бывшего, как и у меня, действительно неважное и ничего смешного в этом я не нахожу.
– Я – Добровольский! – с трудом отсмеявшись, гордо заявил мой собеседник, и это собственное заявление снова задушило его смехом. Бывшего гегемона такое безудержное веселье уже начало немного раздражать – ну, перепутал человек, с кем не бывает. Математика всё же – не клоунада! Серьёзнее надо быть!
Наконец, все успокоились, и кто-то сказал:
– Ваше счастье, юноша, что Кудрявцева сейчас здесь нет. Но он вот-вот придёт, подождите его.
Окончательно сконфуженный студент присел за чей-то стол и стал ждать. Стыдно было, конечно, но доброжелательные весёлые взгляды в его сторону вселяли немного бодрости.
Наконец вошёл тот, внешность кого он так бездарно перепутал. Вошедшего встретили очень радостно – думаю, не так, как обычно.
– Здравствуйте, Анатолий Иванович! – горячо поприветствовал его кто-то, поглядывая на жаждущего сдать экзамен. Но тот благородства не оценил, ему эти подсказки были ни к чему, он и сам теперь видел, что это пришёл настоящий Кудрявцев. Они, конечно, с Добровольским совсем не были похожи. Теперь, увидев их вместе, бедный студент удивлялся, как это их можно перепутать. Но в его оправдание могу сказать, что эти преподаватели имели одинаковую комплекцию и главное – оба очкарики.
Бывший пролетарий подошёл к новому Кудрявцеву, представился и в гнетущей тишине изложил цель визита. Все сосредоточенно изучали бумаги на своих столах, прислушиваясь к диалогу учителя с учеником. Кудрявцев, полный добродушный увалень (такой же, замечу ещё раз, как и Добровольский), быстро выдал моему герою экзаменационный билет, посадил за свой стол и ушёл, попросив коллег приглядывать за забывчивым студентом. Как только Кудрявцев вышел, коллеги бросились к студенту, и через десять минут он готов был отвечать.
Так вот, этот знаменательный экзамен случится чуть позже, а сейчас наш студент, пока ещё с грузным «хвостом» по математике, был очень серьёзно настроен. Сидя в центре, в первом ряду аудитории-амфитеатра, пролетарий не участвовал в общем трёпе сокурсников. Готовился морально. Тем более что нас заранее предупреждали старшие товарищи: лектор по физике – это что-то! Очень знающий и любящий свой предмет, очень требовательный и вообще очень необычный. На расспросы, что же в нём необычного, отвечали кратко:
– Увидите!
И эта краткость интриговала – что же в нём может быть такого необычного, что даже рассказать нельзя.
Размышляя об этом и рассматривая свою девственную тетрадь и инструменты, призванные лишить её девственности, мой герой не заметил момента, всё изменившего. По аудитории вдруг прокатилось дружное глухое «ах!» Сидевший в авангарде студент из числа передовых рабочих и крестьян поглядел назад, но оттуда все широко раскрытыми от ужаса глазами смотрели вперёд, за него. Тогда он тоже обратил свой взор к кафедре и увидел, что к ней идёт высокий несуразный человек в изрядно помятых брюках не по размеру, в застиранной клетчатой рубашке и в сандалиях. Это в середине зимы-то!
Я, хоть и не сидел, как мой пролетарий, в первом ряду, тоже был сражён внешностью физика, и сейчас мне даже кажется, что и сандалии у нового лектора тогда были на босу ногу.
Но не обувь больше всего поражала при взгляде на этого человека, а его голова. Она была огромная, абсолютно лысая, с лицом цвета печёной картошки и с вывернутыми синими губами глубоко пьющего человека. Эта голова была невероятна и сама по себе, но носитель её ещё как будто специально подчёркивал её невероятность. По бокам её и сзади до самых плеч свисали длинные чёрные патлы прямых негнущихся волос, напоминавших проволоку, и эти волосы были настолько неестественными, чуждыми этой голове, что приведённое выше определение «абсолютно лысая» казалось единственно возможным. Потом с более близкого расстояния я увидел, что волосы действительно были ненастоящими, они были приклеены к голове каким-то клеем.
Новый преподаватель представился очень низким рокочущим голосом и широко улыбнулся. Возглас удивления и ужаса вновь прокатился по рядам – такой жуткой была его улыбка. Этот человек с успехом мог бы играть в триллерах без грима, чем невероятно сократил бы расходы кинематографистов. Но тогда в нашей стране ничего не знали о таких фильмах, и богом данный дар пропадал зря.
Не замечая нашего смятения, физик начал читать лекцию. Правда предварил её заявлением, что если мы не будем ходить на его лекции, нам на сессии очень туго придётся, потому что того, что он расскажет, мы ни в одном учебнике не найдём.
Ну да, ну да, все вы так говорите…
Лекцию он читал с нескрываемым удовольствием, как будто анекдот рассказывал. Поражаясь каким-то самим же собой излагаемым сведениям, он не мог сдержаться и временами всхохатывал, отчего его лицо становилось ещё выразительней. Видно было, что он так восторгается своей физикой, что не замечает собственного уродства. А может быть, ему казалось, что ослепительное великолепие того, что он нам говорит, с лихвой перекрывает всё остальное.
На пролетария новый преподаватель произвёл неизгладимое впечатление. И, видимо, чтобы избежать нервного срыва, на следующую лекцию по физике мой друг не пошёл.
Прошло время, и прогулов у бывшего пролетария набралось достаточно, чтобы признаться самому себе и потихоньку мне, что он уже мало что понимает. Давно уже он не сидел в первых рядах, а в тех нечастых случаях, когда всё-таки забредал на лекцию по физике, они со своим закадычным дружком Стефановичем старались усесться где-нибудь подальше, на «камчатке», чтобы не мешать никому и чтобы им никто не мешал. А помешать было чему: иногда они приходили с бутылочкой портвешка. В то время его как раз начали продавать в бутылках для шампанского – их прозвали «противотанковыми». «Кавказ» это был или «Агдам» – неважно, но, кроме приятных ощущений (всё-таки 0,75, а не 0,7) появились и неприятные – тяжесть. Тогда ещё не тяжесть от похмелья, – просто бутылка была тяжёлая.
Я смотрел на этих двух уродов с портвейном с отвращением.
И вот сидят они как-то со Стефановичем тихо-мирно на «камчатке», выпивают из стакана, предусмотрительно захваченного из газировочного автомата, никого не трогают, тихо сидят. Но недолго.
Со Стефановичем вообще долго тихо не посидишь, даже и без портвешка. Должен заметить, что этот деятель был тогда очень умным человеком (может, и сейчас он такой, я много лет его не видел), и это их с пролетарием очень сблизило. Не в том смысле, что пролетарий тоже умный, а просто ему всегда нравились умные люди, может, поэтому у нас с пролетарием близкой дружбы не получилось. Но Стефанович, надо сказать, был не просто умный – он был гениальный.