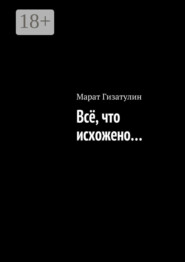По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чирчик впадает в Средиземное море, или Однажды бывший советский пролетарий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ум – это легко, его всегда можно отличить от глупости. Что же касается гениальности, то её, оказывается, тоже нетрудно распознать: если человек, который тебе до этого казался просто умным, вдруг начинает истерически хохотать в самом, казалось бы, неподходящем месте, – всё, пиши гений.
А у Стефановича с этим всё было в порядке. С ним невозможно было ездить в транспорте: рассказывая что-то, он кричал и хохотал на весь троллейбус, размахивая руками, и я избегал совместных с ним поездок, опасаясь, что и меня случайно вместе с ним из троллейбуса выпихнут, а то ещё и морду набьют. Окружающие современники не были способны оценить гениальности Стефановича, и только с бывшим пролетарием они сошлись в дружбе. Подозреваю, что их сблизили общие проблемы с головой.
Ну так вот, сидят они, значит, на «камчатке», выпивают, обмениваются впечатлениями от увиденного и услышанного на лекции и, стиснув зубы, хохочут шёпотом. Точнее, пролетарий – шёпотом, а гений всё больше и больше хохочет в голос. Наконец, на них обращает внимание лектор. Что он сказал, дословно не помню, но ясно было, что он понял, чем там занимаются его студенты. Они притихли было, но Стефановича хватило ненадолго, и через минуту он снова ударился в веселье. Наконец они поняли, что понапрасну теряют тут время, тем более что их всё равно через минуту выгонят, да и портвейн, похоже, у них закончился. Решили они потихоньку выбраться, благо в аудитории, кроме тех дверей, что рядом с преподавателем, были и другие, ближе к «камчатке».
Они бесшумно, как им казалось, собрали вещи, так же бесшумно встали и начали было пробираться к выходу, вызывая негодующие взгляды отличниц и брезгливый мой. Стефанович отправился первым, но уже в самом начале исхода он неловко задел ногой стоявший на полу порожний «противотанковый снаряд», и тот покатился вниз, к центру амфитеатра, громким звуком отмечая каждую ступеньку и более умиротворённым – ровную поверхность. Впрочем, и на ровной поверхности звук хорошо был слышен во всех уголках аудитории, тем более что лекция остановилась и все заворожённо слушали бесконечно долгое соло одинокой бутылки. Для того он и амфитеатр, чтобы акустика хорошая была.
Отправленный вперёд Стефанович с первыми звуками удачно запущенного им снаряда в несколько прыжков пулей выскочил вон, и его детский заливистый хохот доносился теперь из коридора. А мой бедный пролетарий на полпути был застигнут сочувствующим взглядом лектора. Как вежливый человек – узбеки вообще уважительные люди – он тоже посмотрел на лектора, выражая взглядом крайнюю стеснительность, и с виноватой улыбкой продолжил свой путь.
Глупо, конечно, всё это выглядело, но ещё глупее было бы теперь останавливаться. Аудитория была большая, и путь из неё бывшему пролетарию, а в скором времени, наверное, и бывшему студенту, показался бесконечным. Уже совсем на выходе его ободрил громогласный рокот физика: «А вот этот студент получит зачёт в следующей пятилетке».
Но беспечный пролетарий не придал тогда серьёзного значения этим словам, хотя и знал, что некоторые преподаватели бывают очень злопамятными.
Жизнь продолжалась. Наш лектор не вспоминал об этом случае, хотя возможности были, ведь он и семинары вёл в нашей группе. На семинарах он обычно давал какую-нибудь каверзную задачу, им самим придуманную, и все полтора часа мы, рассуждая и споря с ним, пытались найти решение. Однажды он, как обычно, дал задачу в начале семинара, а потом его вдруг куда-то вызвали. Через некоторое время, чтобы мы не скучали, в аудиторию вошёл другой преподаватель с кафедры физики. Вместе с ним мы долго бились над задачей лектора, но она не сдавалась. Тогда преподаватель сказал, что должен выйти на минуточку, и через некоторое время вернулся сияющий. Бодро взял мел, подошёл к доске и стал вроде бы успешно справляться с упрямой задачей. Но когда решение уже казалось совсем близким, мел в его руке поскучнел, стал биться о доску всё реже и реже и, наконец, совсем остановился. Преподаватель пристально смотрел на исписанную доску, что-то бормоча вполголоса, а мы, как могли, старались помочь ему, наперебой предлагая разные варианты дальнейших ходов. Он с благодарностью судорожно хватался за каждый вариант, но очень скоро охладевал. Видно было, что ему чертовски неудобно, но делать нечего, он вынужден был снова отлучиться. Появившись через несколько минут, он, сияющий, ликующий, бодро схватил мел. Семинар подходил к концу и борьба с противной задачей – тоже. Но вдруг, когда он совсем уж было собрался поставить последнюю точку, что-то его опять смутило, он даже пробормотал: «Задача решения не имеет». Однако затем, ничего не говоря, снова выскочил из аудитории и, довольно быстро вернувшись, всё-таки победил эту изрядно всем надоевшую задачу. Тут и звонок прозвенел.
…Семестр заканчивался, подходило время страшного суда «за все твои дела». Пролетария больше всего беспокоила физика, хотя я бы на его месте и насчёт остальных предметов не обольщался бы. Надо было получить зачёт и сдать экзамен. Ну, об экзамене этот ценитель изысканных портвейнов и не помышлял, даже зачёт получить не предвиделось никакой возможности. Для этого надо было защитить все лабораторные работы, которых в семестре было семь или восемь. Об этих защитах рассказывали страшные вещи. Говорили, что легче сдать несколько экзаменов по разным предметам, чем защитить одну лабораторную работу у «нашего», что даже самые отличники из отличников немало ног истопчут и слёз прольют, прежде чем получат неразборчивую закорючку в тетради. А таких закорючек надо было получить семь или восемь.
Задача моего героя усложнялась тем, что у него и тетради-то не было, куда эти закорючки ставить. Как-то так получилось, что он пропустил все лабораторные работы, кроме одной, да и ту куда-то потерял вместе с тетрадью, и теперь, чтобы получить зачёт, надо было сначала провести все эти работы, а уж затем защищать их. А провести их можно теперь только в следующем году, то есть угроза остаться на второй год становилась уже не угрозой, а неприятной реальностью. Вспомнилось обещание лектора про следующую пятилетку… Вот так и получилось, что пришлось нашему герою идти к преподавателю, чтобы обсудить скорбные дела.
Физик широко улыбнулся своей обаятельной беззубой улыбкой и великодушно разрешил студенту из числа передовых рабочих и крестьян переписать у кого-нибудь результаты работ и – защищаться.
Защита проходила просто: подходишь к физику с тетрадкой, он смотрит твою (в пролетарском случае чужую) лабораторную и задаёт какой-нибудь вопрос. Если ответ правильный, следует другой вопрос, а если неправильный, идёшь за свой стол и начинаешь мучительно искать правильный. А искать негде, ни в одной книге ответа на такие идиотские вопросы, какими потчевал нас физик, нечего было и искать. И спросить не у кого – он не повторялся. Промучаешься так минут сорок и поймёшь, что ничего не остаётся делать, как идти и предлагать ему такой же идиотский ответ. А в этом наш передовой рабочий толк знал.
Иногда ответ физику нравился независимо от того, правильный он или нет, и тогда он всхохатывал, хлопая в ладоши. Но гораздо чаще версию портвешиста учитель не принимал, и тогда тот, зная, что в следующий раз его очередь дойдёт минут через сорок и что за это время всё равно ничего лучшего придумать не удастся, вступал с ним в спор, напролом отстаивая свою правоту. Это очень веселило физика, и он охотно препирался с пока ещё не бывшим студентом, пока очередь страждущих, стоявших вокруг, не начинала роптать. Тогда он отсылал последнего за его стол и говорил, чтобы тот не подходил больше к нему в ближайший час, так как ему надо отдохнуть от такого передового студента.
Точно так же, препираясь с преподавателем, только ещё вдобавок крича и хохоча на всю аудиторию, защищался и Стефанович.
Бывший пролетарий приходил в институт к восьми утра и уходил в восемь вечера – точнее, в восемь вечера физик всех выгонял. И так целую неделю или даже дольше. Он спросил однажды, знаем ли мы, сколько часов длится его рабочий день, и я нахально ответил, что он у него ненормированный. Что тоже его повеселило.
Со временем я стал замечать, что пролетарий мой идёт каждый день к экзекутору не как на каторгу, а как на праздник. И в один прекрасный день неожиданно выяснилось, что защищать любителю вина больше нечего. Но пролетарий почему-то испытал не радость, а недоумение: как так? Что же я завтра буду делать?
Такой финал явился неожиданностью не только для студента, но и для преподавателя: оказывается, этот нахал получил зачёт одним из первых. Кто-то из отличников обиженно протянул: «А вы же обещали его в следующей пятилетке…» Физик виновато развёл руками.
Но самым главным для нашего героя из того, что произошло в эти дни, была странная трансформация, произошедшая с преподавателем. В какой-то момент препирательств и споров он вдруг понял, что физик – красивый человек. Очень красивый. И это осознание как-то изменило отношение нерадивого студента к несуразному преподавателю. Мне пролетарий рассказывал растерянно:
– Вот я стою за его спиной с тетрадкой в руке в ожидании своей очереди и разглядываю блестящий череп с ошмётками пакли по бокам, с кусками засохшего клея, и мне хочется погладить его по голове, хотя в тех обстоятельствах правильнее было бы мечтать о том, чтобы стукнуть его чем-нибудь тяжёлым. Вот я сижу перед ним и несу какую-то околесицу, а он так по-доброму смеётся и басит: «Ну, ты загнул! Всё, иди отсюда, дай мне отдохнуть от тебя».
…Как-то выяснилось, что дочь нашего необыкновенного физика тоже учится в нашем институте, но на другом факультете. И вскоре я её увидел. Это была с большим трудом передвигавшаяся маленькая уродливая девочка с огромной головой и неестественно скрюченными конечностями и позвоночником. Она была подтверждением слухов о том, что отец её когда-то на прежней работе получил большую дозу радиации…
Затем был экзамен. Пролетарий со Стефановичем вытащили билеты и сели готовиться. Сейчас у физика появится возможность выполнить своё обещание насчёт следующей пятилетки и реабилитироваться в глазах нормальных студентов. Первый вопрос пролетарию был мало знаком, второй ещё меньше, задача вообще не давалась. Сзади слышались взвизгивания веселящегося Стефановича, что говорило о том, что он тоже в затруднении.
Неожиданно экзаменатор произносит своим низким рокотом: «Сначала я вызову тех, кому уже знаю, что поставить», – и пальчиком пролетария со Стефановичем подзывает. Остальные студенты отвлекаются от своих занятий и с удовольствием готовятся наблюдать, как будет происходить экзекуция. Соискатели садятся по разные стороны от экзаменатора и ждут дальнейшей команды. Вдруг преподаватель, не глядя на их каракули, протягивает руку: «Зачётки!» Переставшие веселиться любители юмора и Бахуса отдают зачётки, понимая, что видят их в последний раз. Но физик, быстро что-то написав в них, зачётки возвращает этим дуракам.
В коридоре выяснилось, что у Стефановича «отл.», у пролетария «хор.». Ну, так я же предупреждал, что Стефанович – гений. Удивительно, что это понял и экзаменатор, хотя на троллейбусе он вместе с ними не катался.
Потом-то наш герой как-то взялся за ум, если было за что браться, и институт окончил благополучно. Своего физика он иногда встречал в коридоре, и они всегда дружески друг другу улыбались. Под занавес бывший пролетарий ещё немного отличился: после четвёртого курса ему сделали операцию на глазах, и он ходил по институту в чёрных очках и злорадно хвастался преподавателям, что ему теперь полгода нельзя читать и писать. А вскоре ещё и ногу сломал и ходил в чёрных очках и на костылях. Однажды в таком обличье кота Базилио его увидел физик. Он аж приостановился в восхищении и радостно сказал: «Ну, ты даёшь!»
Сейчас я понимаю, что Валерий Николаевич был тогда совсем не старым. Да он и умер не старым, через несколько лет после того как мы окончили институт. Ему не было и пятидесяти. В памяти остались его красивое молодое лицо, его обаятельная улыбка, его неоправданная доброта ко всяким отбросам общества типа нашего пролетария, его неожиданный, как у Стефановича, заливистый, заразительный детский смех.
Под чинарой
Однажды бывший советский пролетарий лежал под раскидистой чинарой и дремал. Рядом журчал арык, и его кристально чистые ледяные струи освежали раскалённый прозрачный воздух и воспалённые мозги заслуженного пенсионера. Вдали под Чимганом, на берегу Чарвакского водохранилища, рассыпались укутанные пушистым виноградником домики Бричмуллы. А чуть ближе возвышалась исполинская плотина, под которой берёт своё начало река Чирчик.
Пролетарию было лениво и покойно. Бричмуллинская пчела не досаждала. Неуклюже ворочались в голове обрывки мыслей и воспоминаний.
Увиделось, как они с другом после окончания института вернулись из Москвы на родной завод. Это ниже по реке, километрах в шестидесяти отсюда. Отцы их были большими начальниками на том заводе, и приятели рассчитывали, что их определят работать куда-нибудь в заводоуправление, ну, или в отдел главного механика хотя бы. Но отцы, не сговариваясь, нашли своим чадам совсем другое местечко.
Цех, куда определили обоих приятелей, был самым жутким на этом предприятии, самым вредным. Он производил слабую азотную кислоту. Его называли старым, потому что был ещё один цех азотной кислоты – новый. Кстати, стоит отметить для несведущих, что так называемая слабая азотная кислота по своим разрушительным свойствам куда как эффективнее концентрированной. Тем не менее отцы новоиспечённых инженеров решили, что именно этот цех будет хорошей школой жизни для их отпрысков.
И теперь, лёжа под чинарой, бывший пролетарий думал, что, видимо, они были правы. Другие цеха, в общем-то, тоже были далеко не санаториями, но этот – старый пятый, как его все называли, – по своей чудовищности уверенно вырывался вперёд. Оборудование в нём было ещё трофейным, вывезенным из фашистской Германии, и работники, особенно мужчины, тоже производили впечатление вчера сбежавших из фашистского плена партизан – такие они были помятые, измождённые. Молодые ещё ничего, но молодые здесь очень быстро становились старыми. Хотя старых, строго говоря, в цеху вообще не было, ведь на пенсию мужчины отсюда выходили в пятьдесят лет, а женщины и вообще в сорок пять.
Здесь надо отметить экономическую гениальность тех, кто устанавливал эту пенсионную норму, ибо до пятидесяти доживали почти все или, скажем, многие, а вот новоиспечённые пенсионеры практически сразу умирали, ну, год-два успевали отдохнуть. Вот в этом-то и заключалась гениальность тогдашнего руководства – пенсионный фонд тратился очень экономно.
Достопримечательностью старого цеха была стометровая труба, клубы ядовито-жёлтого дыма из которой видны были с любого конца города. Горожане прозвали этот дым «лисьим хвостом» и весело обсуждали почтовую открытку с видом города, на которой был запечатлён памятник погибшим в Великой Отечественной войне на фоне красивого закатного оранжевого неба. Только жители города знали, что заката в том месте отродясь не бывало, что небо просто окрашено «лисьим хвостом».
Но всё это оба приятеля заметили потом, а сейчас они неприязненно оглядывали друг друга. Ещё бы: ведь они снова оказались вместе, хотя давно уже мечтали, чтобы жизнь их разлучила, наконец. Видимо, жизнь имела другие виды на них, зачем-то сводя их вместе снова и снова, начиная со школы. Они много лет сопротивлялись этому, меняя учебные заведения, города и семьи, но потом, давно уже, смирились с тем, что разлука им не суждена, и нисколько не удивились, увидев друг друга перед входом в цех.
Бывший пролетарий не стал мудрить и пришёл на новую работу в своей обычной одежде, которая не сильно отличалась от спецовок слесарей. Приятель же его, хоть тоже из бывших пролетариев, желал, видимо, подчеркнуть свой новый статус: на нём был красивый длинный плащ, на голове красовалась чёрная шляпа, а завершала образ элегантная сумка через плечо. Цеховой народ не оценил изысканного вида нового мастера механической службы и надолго невзлюбил его. Особенно неприятное впечатление произвела на всех сумка через плечо. Зато нашего пролетария сразу приняли за своего.
Но со временем отношение к двум приятелям уравнялось. Тем более что аккуратист снял шляпу и сумку, и о них постепенно забыли, а принятый вначале за своего будущий бывший тоже оказался с изъяном. Выяснилось, что он совсем не умеет работать с людьми. Не вообще с людьми, а с непосредственно подчинёнными ему слесарями. У него плохо получалось ими руководить. Он сразу повёл себя очень демократично, презрев всякую дистанцию, и подчинённые постепенно сели ему на голову. Наконец, в один прекрасный день он не выдержал и устроил очень громкий «разбор полётов» в слесарке – с запуском в полёт гаечных ключей и других инструментов. Слесаря пошелковели. Но уже через день он, видя их исполнительность и преданность, снова перешёл на человеческий язык, и через неделю или две снова назрела необходимость в скандале. И никак ему не удавалось установить золотую середину в отношениях с подчинёнными.
Но это было потом, позже, а пока, в первый день, начальник производства представил молодых специалистов итээровцам, и исполняющий обязанности механика цеха повёл их на основное место работы, в кабинет мехслужбы на втором этаже. Их ровесник казах Бадмаев был назначен мастером всего несколько дней назад, а до того трудился слесарем и даже ещё не сменил спецовку на более приличествующий его новой должности наряд. Он учился в вечернем институте и теперь, закончив его, совершил головокружительный карьерный взлёт, превратившись не просто в мастера, а сразу в двух мастеров и в механика цеха одновременно – все эти три единицы были положены цеху по штату. Куда вдруг в одночасье провалился весь генералитет мехслужбы, было неясно, но очереди инженеров, желающих работать в этом цехе, за забором завода не стояло. Так что появление сразу двух недостающих мастеров, которые специально для этого, оказывается, примчались из Москвы, оказалось очень кстати.
В кабинете Бадмаев предложил новичкам выбрать столы, которых как раз и было три. Они выбрали, уселись и уставились друг на друга. После паузы Бадмаев сказал многозначительно:
– Кого-то из нас должны назначить механиком цеха…
Но москвичи вовсе не собирались конкурировать с выпускником вечернего института, о чём и сообщили. Какая тут может быть конкуренция, если он цех знал, как свои пять пальцев, а они ещё не знали даже, где здесь туалет? Да и слесарям он ещё вчера был братом. Бадмаев повеселел, велел нахлобучить каски, надеть через плечо противогазы на манер той самой сумки и повёл новоиспечённых инженеров осматривать цех.
Едва они вошли в отделение конверсии, как на них тяжёлой плитой обрушился грохот и удушливый запах окислов азота, которые, попадая в органы дыхания, моментально превращались в конечный продукт этого цеха, а именно в азотную кислоту. Из всех соединений труб, которых здесь было, как лиан в джунглях, хлестал сизый дым, заволакивая всё вокруг, а с потолка, стен и пола била какая-то жидкость, от которой на полу образовывались лужи. Москвичи поняли, что случилась страшная авария и первый их рабочий день, видимо, станет последним.
Бывший пролетарий уже готовился к мучительной смерти. В его памяти промелькнул день – восемь лет назад, – когда он ещё был не бывшим пролетарием на этом же заводе. Тогда он работал слесарем в цеху контрольно-измерительных приборов, который теперь показался бы кремлёвским санаторием. Накануне того дня тоже произошло ЧП – взорвался новый цех, и они тогда выискивали в завалах не до конца разбитые приборы, чтобы попытаться их восстановить. Но не до конца разбитых приборов пролетарию не попадалось, а вместо них попался ботинок с фрагментом ноги; рядом валялась разбитая каска, вымазанная кровью и чем-то белым. Отец пролетария всю ночь после взрыва провёл на месте происшествия и утром, зайдя домой, поведал домочадцам, что среди прочих при пуске нового цеха погиб сам начальник цеха Рустамов, – ему оторвало полголовы. И бывший пролетарий, разглядывая окровавленную каску, вспоминал тогда об этом рассказе…
– Ну, чего встали, – не очень вежливо прервал предсмертные пролетарские воспоминания Бадмаев, – пошли дальше, а то мы до конца рабочего дня цех не обойдём.
В тот день противогазами они так и не воспользовались: очень хотелось, но – все ходили без противогазов А потом, попривыкнув, они и вовсе не брали их с собой в цех. Это категорически запрещалось требованиями техники безопасности, но как же можно работать в пятидесятиградусную жару в каске и с противогазом? Ну, каска ещё ладно, без неё нельзя – плеснет что-нибудь на голову, останешься без скальпа…
Но однажды будущий киприот едва не был самым жестоким образом наказан за небрежительное отношение к противогазу. В тот день прорвало уплотнение абсорбционной колонны, и надо было случиться, что неподалёку проходил нарушитель противогазного режима. Все, кто был поблизости, успели выскочить из опасной зоны, а инженер московского разлива неправильно оценил направление ветра и ринулся не туда. Будь под рукой противогаз, он успел бы его нацепить и спокойно выйти на свежий воздух. А тут – он уже видит подоспевший автобус со спасателями метрах в двадцати от себя, но чувствует, что добежать не успевает. Спасатели тоже не спешат ему навстречу, так как сами забыли захватить свои противогазы. Каким-то чудом он всё-таки почти добежал, и его успели подхватить под руки. Ночью дома его выворачивали кашель и рвота, раздирающие внутренности, и наутро он вынужден был отправиться в заводскую поликлинику. В больничном пришлось написать «острый бронхит», ибо признание аварии на производстве тогда было равносильно признанию в государственной измене.
А у Стефановича с этим всё было в порядке. С ним невозможно было ездить в транспорте: рассказывая что-то, он кричал и хохотал на весь троллейбус, размахивая руками, и я избегал совместных с ним поездок, опасаясь, что и меня случайно вместе с ним из троллейбуса выпихнут, а то ещё и морду набьют. Окружающие современники не были способны оценить гениальности Стефановича, и только с бывшим пролетарием они сошлись в дружбе. Подозреваю, что их сблизили общие проблемы с головой.
Ну так вот, сидят они, значит, на «камчатке», выпивают, обмениваются впечатлениями от увиденного и услышанного на лекции и, стиснув зубы, хохочут шёпотом. Точнее, пролетарий – шёпотом, а гений всё больше и больше хохочет в голос. Наконец, на них обращает внимание лектор. Что он сказал, дословно не помню, но ясно было, что он понял, чем там занимаются его студенты. Они притихли было, но Стефановича хватило ненадолго, и через минуту он снова ударился в веселье. Наконец они поняли, что понапрасну теряют тут время, тем более что их всё равно через минуту выгонят, да и портвейн, похоже, у них закончился. Решили они потихоньку выбраться, благо в аудитории, кроме тех дверей, что рядом с преподавателем, были и другие, ближе к «камчатке».
Они бесшумно, как им казалось, собрали вещи, так же бесшумно встали и начали было пробираться к выходу, вызывая негодующие взгляды отличниц и брезгливый мой. Стефанович отправился первым, но уже в самом начале исхода он неловко задел ногой стоявший на полу порожний «противотанковый снаряд», и тот покатился вниз, к центру амфитеатра, громким звуком отмечая каждую ступеньку и более умиротворённым – ровную поверхность. Впрочем, и на ровной поверхности звук хорошо был слышен во всех уголках аудитории, тем более что лекция остановилась и все заворожённо слушали бесконечно долгое соло одинокой бутылки. Для того он и амфитеатр, чтобы акустика хорошая была.
Отправленный вперёд Стефанович с первыми звуками удачно запущенного им снаряда в несколько прыжков пулей выскочил вон, и его детский заливистый хохот доносился теперь из коридора. А мой бедный пролетарий на полпути был застигнут сочувствующим взглядом лектора. Как вежливый человек – узбеки вообще уважительные люди – он тоже посмотрел на лектора, выражая взглядом крайнюю стеснительность, и с виноватой улыбкой продолжил свой путь.
Глупо, конечно, всё это выглядело, но ещё глупее было бы теперь останавливаться. Аудитория была большая, и путь из неё бывшему пролетарию, а в скором времени, наверное, и бывшему студенту, показался бесконечным. Уже совсем на выходе его ободрил громогласный рокот физика: «А вот этот студент получит зачёт в следующей пятилетке».
Но беспечный пролетарий не придал тогда серьёзного значения этим словам, хотя и знал, что некоторые преподаватели бывают очень злопамятными.
Жизнь продолжалась. Наш лектор не вспоминал об этом случае, хотя возможности были, ведь он и семинары вёл в нашей группе. На семинарах он обычно давал какую-нибудь каверзную задачу, им самим придуманную, и все полтора часа мы, рассуждая и споря с ним, пытались найти решение. Однажды он, как обычно, дал задачу в начале семинара, а потом его вдруг куда-то вызвали. Через некоторое время, чтобы мы не скучали, в аудиторию вошёл другой преподаватель с кафедры физики. Вместе с ним мы долго бились над задачей лектора, но она не сдавалась. Тогда преподаватель сказал, что должен выйти на минуточку, и через некоторое время вернулся сияющий. Бодро взял мел, подошёл к доске и стал вроде бы успешно справляться с упрямой задачей. Но когда решение уже казалось совсем близким, мел в его руке поскучнел, стал биться о доску всё реже и реже и, наконец, совсем остановился. Преподаватель пристально смотрел на исписанную доску, что-то бормоча вполголоса, а мы, как могли, старались помочь ему, наперебой предлагая разные варианты дальнейших ходов. Он с благодарностью судорожно хватался за каждый вариант, но очень скоро охладевал. Видно было, что ему чертовски неудобно, но делать нечего, он вынужден был снова отлучиться. Появившись через несколько минут, он, сияющий, ликующий, бодро схватил мел. Семинар подходил к концу и борьба с противной задачей – тоже. Но вдруг, когда он совсем уж было собрался поставить последнюю точку, что-то его опять смутило, он даже пробормотал: «Задача решения не имеет». Однако затем, ничего не говоря, снова выскочил из аудитории и, довольно быстро вернувшись, всё-таки победил эту изрядно всем надоевшую задачу. Тут и звонок прозвенел.
…Семестр заканчивался, подходило время страшного суда «за все твои дела». Пролетария больше всего беспокоила физика, хотя я бы на его месте и насчёт остальных предметов не обольщался бы. Надо было получить зачёт и сдать экзамен. Ну, об экзамене этот ценитель изысканных портвейнов и не помышлял, даже зачёт получить не предвиделось никакой возможности. Для этого надо было защитить все лабораторные работы, которых в семестре было семь или восемь. Об этих защитах рассказывали страшные вещи. Говорили, что легче сдать несколько экзаменов по разным предметам, чем защитить одну лабораторную работу у «нашего», что даже самые отличники из отличников немало ног истопчут и слёз прольют, прежде чем получат неразборчивую закорючку в тетради. А таких закорючек надо было получить семь или восемь.
Задача моего героя усложнялась тем, что у него и тетради-то не было, куда эти закорючки ставить. Как-то так получилось, что он пропустил все лабораторные работы, кроме одной, да и ту куда-то потерял вместе с тетрадью, и теперь, чтобы получить зачёт, надо было сначала провести все эти работы, а уж затем защищать их. А провести их можно теперь только в следующем году, то есть угроза остаться на второй год становилась уже не угрозой, а неприятной реальностью. Вспомнилось обещание лектора про следующую пятилетку… Вот так и получилось, что пришлось нашему герою идти к преподавателю, чтобы обсудить скорбные дела.
Физик широко улыбнулся своей обаятельной беззубой улыбкой и великодушно разрешил студенту из числа передовых рабочих и крестьян переписать у кого-нибудь результаты работ и – защищаться.
Защита проходила просто: подходишь к физику с тетрадкой, он смотрит твою (в пролетарском случае чужую) лабораторную и задаёт какой-нибудь вопрос. Если ответ правильный, следует другой вопрос, а если неправильный, идёшь за свой стол и начинаешь мучительно искать правильный. А искать негде, ни в одной книге ответа на такие идиотские вопросы, какими потчевал нас физик, нечего было и искать. И спросить не у кого – он не повторялся. Промучаешься так минут сорок и поймёшь, что ничего не остаётся делать, как идти и предлагать ему такой же идиотский ответ. А в этом наш передовой рабочий толк знал.
Иногда ответ физику нравился независимо от того, правильный он или нет, и тогда он всхохатывал, хлопая в ладоши. Но гораздо чаще версию портвешиста учитель не принимал, и тогда тот, зная, что в следующий раз его очередь дойдёт минут через сорок и что за это время всё равно ничего лучшего придумать не удастся, вступал с ним в спор, напролом отстаивая свою правоту. Это очень веселило физика, и он охотно препирался с пока ещё не бывшим студентом, пока очередь страждущих, стоявших вокруг, не начинала роптать. Тогда он отсылал последнего за его стол и говорил, чтобы тот не подходил больше к нему в ближайший час, так как ему надо отдохнуть от такого передового студента.
Точно так же, препираясь с преподавателем, только ещё вдобавок крича и хохоча на всю аудиторию, защищался и Стефанович.
Бывший пролетарий приходил в институт к восьми утра и уходил в восемь вечера – точнее, в восемь вечера физик всех выгонял. И так целую неделю или даже дольше. Он спросил однажды, знаем ли мы, сколько часов длится его рабочий день, и я нахально ответил, что он у него ненормированный. Что тоже его повеселило.
Со временем я стал замечать, что пролетарий мой идёт каждый день к экзекутору не как на каторгу, а как на праздник. И в один прекрасный день неожиданно выяснилось, что защищать любителю вина больше нечего. Но пролетарий почему-то испытал не радость, а недоумение: как так? Что же я завтра буду делать?
Такой финал явился неожиданностью не только для студента, но и для преподавателя: оказывается, этот нахал получил зачёт одним из первых. Кто-то из отличников обиженно протянул: «А вы же обещали его в следующей пятилетке…» Физик виновато развёл руками.
Но самым главным для нашего героя из того, что произошло в эти дни, была странная трансформация, произошедшая с преподавателем. В какой-то момент препирательств и споров он вдруг понял, что физик – красивый человек. Очень красивый. И это осознание как-то изменило отношение нерадивого студента к несуразному преподавателю. Мне пролетарий рассказывал растерянно:
– Вот я стою за его спиной с тетрадкой в руке в ожидании своей очереди и разглядываю блестящий череп с ошмётками пакли по бокам, с кусками засохшего клея, и мне хочется погладить его по голове, хотя в тех обстоятельствах правильнее было бы мечтать о том, чтобы стукнуть его чем-нибудь тяжёлым. Вот я сижу перед ним и несу какую-то околесицу, а он так по-доброму смеётся и басит: «Ну, ты загнул! Всё, иди отсюда, дай мне отдохнуть от тебя».
…Как-то выяснилось, что дочь нашего необыкновенного физика тоже учится в нашем институте, но на другом факультете. И вскоре я её увидел. Это была с большим трудом передвигавшаяся маленькая уродливая девочка с огромной головой и неестественно скрюченными конечностями и позвоночником. Она была подтверждением слухов о том, что отец её когда-то на прежней работе получил большую дозу радиации…
Затем был экзамен. Пролетарий со Стефановичем вытащили билеты и сели готовиться. Сейчас у физика появится возможность выполнить своё обещание насчёт следующей пятилетки и реабилитироваться в глазах нормальных студентов. Первый вопрос пролетарию был мало знаком, второй ещё меньше, задача вообще не давалась. Сзади слышались взвизгивания веселящегося Стефановича, что говорило о том, что он тоже в затруднении.
Неожиданно экзаменатор произносит своим низким рокотом: «Сначала я вызову тех, кому уже знаю, что поставить», – и пальчиком пролетария со Стефановичем подзывает. Остальные студенты отвлекаются от своих занятий и с удовольствием готовятся наблюдать, как будет происходить экзекуция. Соискатели садятся по разные стороны от экзаменатора и ждут дальнейшей команды. Вдруг преподаватель, не глядя на их каракули, протягивает руку: «Зачётки!» Переставшие веселиться любители юмора и Бахуса отдают зачётки, понимая, что видят их в последний раз. Но физик, быстро что-то написав в них, зачётки возвращает этим дуракам.
В коридоре выяснилось, что у Стефановича «отл.», у пролетария «хор.». Ну, так я же предупреждал, что Стефанович – гений. Удивительно, что это понял и экзаменатор, хотя на троллейбусе он вместе с ними не катался.
Потом-то наш герой как-то взялся за ум, если было за что браться, и институт окончил благополучно. Своего физика он иногда встречал в коридоре, и они всегда дружески друг другу улыбались. Под занавес бывший пролетарий ещё немного отличился: после четвёртого курса ему сделали операцию на глазах, и он ходил по институту в чёрных очках и злорадно хвастался преподавателям, что ему теперь полгода нельзя читать и писать. А вскоре ещё и ногу сломал и ходил в чёрных очках и на костылях. Однажды в таком обличье кота Базилио его увидел физик. Он аж приостановился в восхищении и радостно сказал: «Ну, ты даёшь!»
Сейчас я понимаю, что Валерий Николаевич был тогда совсем не старым. Да он и умер не старым, через несколько лет после того как мы окончили институт. Ему не было и пятидесяти. В памяти остались его красивое молодое лицо, его обаятельная улыбка, его неоправданная доброта ко всяким отбросам общества типа нашего пролетария, его неожиданный, как у Стефановича, заливистый, заразительный детский смех.
Под чинарой
Однажды бывший советский пролетарий лежал под раскидистой чинарой и дремал. Рядом журчал арык, и его кристально чистые ледяные струи освежали раскалённый прозрачный воздух и воспалённые мозги заслуженного пенсионера. Вдали под Чимганом, на берегу Чарвакского водохранилища, рассыпались укутанные пушистым виноградником домики Бричмуллы. А чуть ближе возвышалась исполинская плотина, под которой берёт своё начало река Чирчик.
Пролетарию было лениво и покойно. Бричмуллинская пчела не досаждала. Неуклюже ворочались в голове обрывки мыслей и воспоминаний.
Увиделось, как они с другом после окончания института вернулись из Москвы на родной завод. Это ниже по реке, километрах в шестидесяти отсюда. Отцы их были большими начальниками на том заводе, и приятели рассчитывали, что их определят работать куда-нибудь в заводоуправление, ну, или в отдел главного механика хотя бы. Но отцы, не сговариваясь, нашли своим чадам совсем другое местечко.
Цех, куда определили обоих приятелей, был самым жутким на этом предприятии, самым вредным. Он производил слабую азотную кислоту. Его называли старым, потому что был ещё один цех азотной кислоты – новый. Кстати, стоит отметить для несведущих, что так называемая слабая азотная кислота по своим разрушительным свойствам куда как эффективнее концентрированной. Тем не менее отцы новоиспечённых инженеров решили, что именно этот цех будет хорошей школой жизни для их отпрысков.
И теперь, лёжа под чинарой, бывший пролетарий думал, что, видимо, они были правы. Другие цеха, в общем-то, тоже были далеко не санаториями, но этот – старый пятый, как его все называли, – по своей чудовищности уверенно вырывался вперёд. Оборудование в нём было ещё трофейным, вывезенным из фашистской Германии, и работники, особенно мужчины, тоже производили впечатление вчера сбежавших из фашистского плена партизан – такие они были помятые, измождённые. Молодые ещё ничего, но молодые здесь очень быстро становились старыми. Хотя старых, строго говоря, в цеху вообще не было, ведь на пенсию мужчины отсюда выходили в пятьдесят лет, а женщины и вообще в сорок пять.
Здесь надо отметить экономическую гениальность тех, кто устанавливал эту пенсионную норму, ибо до пятидесяти доживали почти все или, скажем, многие, а вот новоиспечённые пенсионеры практически сразу умирали, ну, год-два успевали отдохнуть. Вот в этом-то и заключалась гениальность тогдашнего руководства – пенсионный фонд тратился очень экономно.
Достопримечательностью старого цеха была стометровая труба, клубы ядовито-жёлтого дыма из которой видны были с любого конца города. Горожане прозвали этот дым «лисьим хвостом» и весело обсуждали почтовую открытку с видом города, на которой был запечатлён памятник погибшим в Великой Отечественной войне на фоне красивого закатного оранжевого неба. Только жители города знали, что заката в том месте отродясь не бывало, что небо просто окрашено «лисьим хвостом».
Но всё это оба приятеля заметили потом, а сейчас они неприязненно оглядывали друг друга. Ещё бы: ведь они снова оказались вместе, хотя давно уже мечтали, чтобы жизнь их разлучила, наконец. Видимо, жизнь имела другие виды на них, зачем-то сводя их вместе снова и снова, начиная со школы. Они много лет сопротивлялись этому, меняя учебные заведения, города и семьи, но потом, давно уже, смирились с тем, что разлука им не суждена, и нисколько не удивились, увидев друг друга перед входом в цех.
Бывший пролетарий не стал мудрить и пришёл на новую работу в своей обычной одежде, которая не сильно отличалась от спецовок слесарей. Приятель же его, хоть тоже из бывших пролетариев, желал, видимо, подчеркнуть свой новый статус: на нём был красивый длинный плащ, на голове красовалась чёрная шляпа, а завершала образ элегантная сумка через плечо. Цеховой народ не оценил изысканного вида нового мастера механической службы и надолго невзлюбил его. Особенно неприятное впечатление произвела на всех сумка через плечо. Зато нашего пролетария сразу приняли за своего.
Но со временем отношение к двум приятелям уравнялось. Тем более что аккуратист снял шляпу и сумку, и о них постепенно забыли, а принятый вначале за своего будущий бывший тоже оказался с изъяном. Выяснилось, что он совсем не умеет работать с людьми. Не вообще с людьми, а с непосредственно подчинёнными ему слесарями. У него плохо получалось ими руководить. Он сразу повёл себя очень демократично, презрев всякую дистанцию, и подчинённые постепенно сели ему на голову. Наконец, в один прекрасный день он не выдержал и устроил очень громкий «разбор полётов» в слесарке – с запуском в полёт гаечных ключей и других инструментов. Слесаря пошелковели. Но уже через день он, видя их исполнительность и преданность, снова перешёл на человеческий язык, и через неделю или две снова назрела необходимость в скандале. И никак ему не удавалось установить золотую середину в отношениях с подчинёнными.
Но это было потом, позже, а пока, в первый день, начальник производства представил молодых специалистов итээровцам, и исполняющий обязанности механика цеха повёл их на основное место работы, в кабинет мехслужбы на втором этаже. Их ровесник казах Бадмаев был назначен мастером всего несколько дней назад, а до того трудился слесарем и даже ещё не сменил спецовку на более приличествующий его новой должности наряд. Он учился в вечернем институте и теперь, закончив его, совершил головокружительный карьерный взлёт, превратившись не просто в мастера, а сразу в двух мастеров и в механика цеха одновременно – все эти три единицы были положены цеху по штату. Куда вдруг в одночасье провалился весь генералитет мехслужбы, было неясно, но очереди инженеров, желающих работать в этом цехе, за забором завода не стояло. Так что появление сразу двух недостающих мастеров, которые специально для этого, оказывается, примчались из Москвы, оказалось очень кстати.
В кабинете Бадмаев предложил новичкам выбрать столы, которых как раз и было три. Они выбрали, уселись и уставились друг на друга. После паузы Бадмаев сказал многозначительно:
– Кого-то из нас должны назначить механиком цеха…
Но москвичи вовсе не собирались конкурировать с выпускником вечернего института, о чём и сообщили. Какая тут может быть конкуренция, если он цех знал, как свои пять пальцев, а они ещё не знали даже, где здесь туалет? Да и слесарям он ещё вчера был братом. Бадмаев повеселел, велел нахлобучить каски, надеть через плечо противогазы на манер той самой сумки и повёл новоиспечённых инженеров осматривать цех.
Едва они вошли в отделение конверсии, как на них тяжёлой плитой обрушился грохот и удушливый запах окислов азота, которые, попадая в органы дыхания, моментально превращались в конечный продукт этого цеха, а именно в азотную кислоту. Из всех соединений труб, которых здесь было, как лиан в джунглях, хлестал сизый дым, заволакивая всё вокруг, а с потолка, стен и пола била какая-то жидкость, от которой на полу образовывались лужи. Москвичи поняли, что случилась страшная авария и первый их рабочий день, видимо, станет последним.
Бывший пролетарий уже готовился к мучительной смерти. В его памяти промелькнул день – восемь лет назад, – когда он ещё был не бывшим пролетарием на этом же заводе. Тогда он работал слесарем в цеху контрольно-измерительных приборов, который теперь показался бы кремлёвским санаторием. Накануне того дня тоже произошло ЧП – взорвался новый цех, и они тогда выискивали в завалах не до конца разбитые приборы, чтобы попытаться их восстановить. Но не до конца разбитых приборов пролетарию не попадалось, а вместо них попался ботинок с фрагментом ноги; рядом валялась разбитая каска, вымазанная кровью и чем-то белым. Отец пролетария всю ночь после взрыва провёл на месте происшествия и утром, зайдя домой, поведал домочадцам, что среди прочих при пуске нового цеха погиб сам начальник цеха Рустамов, – ему оторвало полголовы. И бывший пролетарий, разглядывая окровавленную каску, вспоминал тогда об этом рассказе…
– Ну, чего встали, – не очень вежливо прервал предсмертные пролетарские воспоминания Бадмаев, – пошли дальше, а то мы до конца рабочего дня цех не обойдём.
В тот день противогазами они так и не воспользовались: очень хотелось, но – все ходили без противогазов А потом, попривыкнув, они и вовсе не брали их с собой в цех. Это категорически запрещалось требованиями техники безопасности, но как же можно работать в пятидесятиградусную жару в каске и с противогазом? Ну, каска ещё ладно, без неё нельзя – плеснет что-нибудь на голову, останешься без скальпа…
Но однажды будущий киприот едва не был самым жестоким образом наказан за небрежительное отношение к противогазу. В тот день прорвало уплотнение абсорбционной колонны, и надо было случиться, что неподалёку проходил нарушитель противогазного режима. Все, кто был поблизости, успели выскочить из опасной зоны, а инженер московского разлива неправильно оценил направление ветра и ринулся не туда. Будь под рукой противогаз, он успел бы его нацепить и спокойно выйти на свежий воздух. А тут – он уже видит подоспевший автобус со спасателями метрах в двадцати от себя, но чувствует, что добежать не успевает. Спасатели тоже не спешат ему навстречу, так как сами забыли захватить свои противогазы. Каким-то чудом он всё-таки почти добежал, и его успели подхватить под руки. Ночью дома его выворачивали кашель и рвота, раздирающие внутренности, и наутро он вынужден был отправиться в заводскую поликлинику. В больничном пришлось написать «острый бронхит», ибо признание аварии на производстве тогда было равносильно признанию в государственной измене.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: