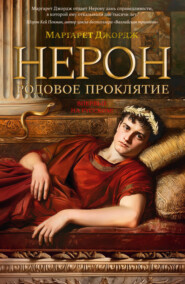По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Нерон. Блеск накануне тьмы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Слишком амбициозно.
– Крёз прославился лишь своим золотом, мой проект прославит Рим на века, – парировал я.
Теперь встал Тразея Пет, сенатор-стоик, и он осмелился произнести вслух то, чего боялись сказать другие:
– Да, расточительство, граничащее с безумием, – это ли не достойная нашего города репутация.
– А я не стал бы сравнивать мечты о величии Рима с безумием, – вступил в обсуждение Пизон, этот вечный примиритель и посредник. – Но возможно, лучше начать отстраиваться постепенно и по ходу строительства посмотреть, выдержит ли казна такую нагрузку.
– Нет, все до?лжно делать одним махом, – возразил я. – Так, чтобы окончание строительства было настоящим, а не промежуточным. – Я умолк, никаких реплик не последовало, и я продолжил: – Нет утомительнее дороги, чем та, которая постоянно ремонтируется, или дом, который все никак не достроят, или бесконечные восстановительные работы с их пылью, грудами хлама и объездными путями. Нет, мы должны вернуть свой город и сделаем это быстро, ко вторым Нерониям[50 - Неронии – игры, учрежденные императором Нероном для прославления самого себя; состояли в музыкальных состязаниях, в беге и т. п.], то есть через год с небольшим. И когда этот день настанет, вы пройдете по новым, мощенным каменными плитами широким улицам мимо вновь отстроенных домов в открытый вестибюль Золотого дома, где мы устроим грандиозный пир.
Вначале мне хотелось описать им все в деталях, но теперь я стал сомневаться в том, что это пойдет на пользу моему проекту.
И тут встал недавно избранный сенатор Лукан:
– А разве тот или те, кто повинны в Великом пожаре, не должны понести наказание?
– Как такое возможно, коль скоро пожар возник от случайного возгорания? – удивился я. – Кто-то мог задеть и уронить лампу. Пусть так, но это еще не значит, что он сделал это намеренно. Этот человек и сейчас может не сознавать, что стал невольным поджигателем… Если он вообще сумел выжить в огне.
– Люди проклинают того, кто начал пожар, – упорствовал Лукан. – Они не называют имен, но, похоже, уверены в том, что поджигатель был.
– И то, что они не называют имя поджигателя, тоже о многом говорит, – подхватил Сцевин. – Возможно, они просто не осмеливаются его назвать.
С тем же успехом он мог ткнуть в меня пальцем и, как пророк Натан царю Давиду, заявить: «Ты – тот человек!»
Но Сцевин не был пророком, а я, в отличие от увлекшегося Батшевой[51 - Батшева (Вирсавия) – вдова Урии-хитийца, одного из военачальников войска царя Давида, после смерти мужа ставшая женой царя Давида. Батшева была матерью царя Соломона, сына и наследника Давида.] Давида, был невиновен и не стал смиренно признавать свой грех.
Более того, эти непрекращающиеся обвинения начали выводить меня из себя. И… что, если правда? Что, если кто-то намеренно разжег Великий пожар? Люди не верили в то, что эта беда обрушилась на них по воле случая, но не могли найти виновных. И поэтому во всем винили меня.
– Итак, сенаторы, – мрачно произнес я, – теперь я обязуюсь не только восстановить наш город, но и найти и наказать поджигателей, если таковые вообще существуют. Однако сначала надо умилостивить богов Рима за осквернение и уничтожение их святынь этими злодеями, кем бы они ни были.
И это были не пустые слова, их должны были услышать те, кто посмел заподозрить меня в подобном злодеянии, причем кто-то из них мог в этот момент присутствовать в курии.
Больше никто из сенаторов не пожелал взять слово. Я их распустил одним императорским жестом, а потом и сам медленно вышел из курии на залитый ярким солнечным светом Форум.
Моя пурпурная тога переливалась и словно бы нашептывала: «Помни, ты – император, ты правишь, не они».
Стоявшие на страже у дверей курии преторианцы Фений и Субрий хранили молчание, лица их оставались непроницаемыми.
* * *
– Это было то? еще удовольствие, – сказал я Поппее, когда мы остались наедине в наших покоях.
Фений и Субрий ретировались сразу, как только мы вернулись во дворец. Я послал за слугой, который помог мне избавиться от тяжелой для такой жаркой погоды тоги. Глядя на это аккуратно сложенное императорское одеяние, я вдруг подумал о том, сколько моллюсков перемололи ради его окраски. Притом что такого насыщенного цвета можно было достичь только после двух последовательных окрасок.
– Но ты ведь и не рассчитывал на другой прием? – пожала плечами Поппея. – Вряд ли найдутся желающие аплодировать твоему плану по восстановлению Рима.
– Сенат давно уже вялый и покорный, так с чего ему меняться?
Я опустился на скамью с мягкими подушками и жестом велел слуге подать чашу с «напитком Нерона» – охлажденной снегом кипяченой водой. Казалось бы, ничего особенного, но, на мой вкус, это был самый освежающий напиток из всех, и его запасы у меня во дворце никогда не заканчивались.
Как только у меня в руке оказалась чаша с «напитком Нерона», я осушил ее залпом. В курии я чуть не умер и от жары, и от жажды.
Поппея тоже жестом приказала принести себе мой напиток и, отпив немного, проговорила:
– Они согласились с тем, что смерть твоей матери наступила в результате самоубийства, после того, как было раскрыто ее участие в заговоре против императора. Признай, Сенека придумал для тебя отличную версию защиты.
Сенаторы готовы голосовать за любое твое предложение, но сейчас все несколько иначе. Во-первых, ты решил преобразовать все устройство Рима. А во-вторых, и, возможно, это для них самое главное, твоя идея будет стоить им немалых денег. Когда они признали твою мать виновной, это им ничего не стоило. Как ничего не стоило и согласиться с тем, что твои речи должны выгравировать на серебряных табличках и зачитывать по всей империи. Но этот твой проект ударит их в самое болезненное место – по их кошелькам. Кое-кто из них, благодаря твоему перепланированию Рима, потеряет дорогостоящую недвижимость в самом центре города.
– Тут ты права, – согласился я. – Но Великий пожар всем дорого обошелся. – Я рассеянно похлопал ладонью по аккуратно сложенной пурпурной тоге.
– Тебя еще что-то беспокоит, – заметила Поппея.
Как же хорошо она меня знала! Мы всегда видели друг в друге собственное отражение, разделяли одни и те же чувства и перемены в настроении.
И тут я сорвался:
– Они продолжают винить меня! Думают, что это я начал Великий пожар!
– Кто эти они?
– Все! Сенатор Сцевин обвинил меня практически напрямую. И никто не стал ему возражать: они просто сидели и молча на меня пялились!
– Сцевин – напыщенный сноб, – усмехнулась Поппея. – К нему вообще не стоит прислушиваться.
– А мне показалось, что к нему очень даже прислушиваются. И Лукан сказал, что люди проклинают того, кто начал пожар, но имени его не называют. То есть опасаются, что когда произнесут имя вслух, то вызовут гнев могущественного человека… императора.
– Лукан? – Поппея скривилась. – Этот поэт и племянник Сенеки? Он тебе завидует, потому что ты пишешь гораздо лучше его.
– Нет. – Я покачал головой. – Дело не только в этом и не только в сенаторах. – (Что касается поэтического дара Лукана, он был очень талантлив и в нашем соперничестве «дышал мне в спину».) – Несколько дней назад мой давний учитель кифаред Терпний сказал мне, что ходят слухи, будто я, пока полыхал Рим, пел свою поэму «Падение Трои». И что хуже всего, он в это поверил. Я знаю, что поверил, видел по его глазам. А еще ходят слухи, будто я сам разжег Великий пожар, чтобы потом перестроить Рим и переименовать в свою честь. Думаю, есть история, сложенная из этих двух частей, и звучит она так: Нерон поджег Рим, взобрался на какую-то башню, схватил кифару и стал распевать «Падение Трои», мечтая назвать Вечный город своим именем.
Меня охватил гнев, но он не смог придушить вызванную всеми этими обвинениями тоску и мерзкое ощущение, что меня предали и мой народ, и мой Сенат.
– Я не говорил тебе об этом, хотя следовало.
Поппея подошла ко мне со спины, обняла за плечи и прижалась губами к затылку. Мы сплели пальцы.
– Ты должен обо всем мне рассказывать. Ты ведь знаешь – мы одно целое, и так будет всегда.
– Да. – Я крепче стиснул ее пальцы. – Мы – одно целое.
Поппея слегка боднула меня головой и спросила:
– А что, если пожар действительно начался не случайно? Что, если был поджигатель или поджигатели? Такое ведь возможно.
– Но с какой целью им это делать?
Поппея задумалась. Я ждал.
– Крёз прославился лишь своим золотом, мой проект прославит Рим на века, – парировал я.
Теперь встал Тразея Пет, сенатор-стоик, и он осмелился произнести вслух то, чего боялись сказать другие:
– Да, расточительство, граничащее с безумием, – это ли не достойная нашего города репутация.
– А я не стал бы сравнивать мечты о величии Рима с безумием, – вступил в обсуждение Пизон, этот вечный примиритель и посредник. – Но возможно, лучше начать отстраиваться постепенно и по ходу строительства посмотреть, выдержит ли казна такую нагрузку.
– Нет, все до?лжно делать одним махом, – возразил я. – Так, чтобы окончание строительства было настоящим, а не промежуточным. – Я умолк, никаких реплик не последовало, и я продолжил: – Нет утомительнее дороги, чем та, которая постоянно ремонтируется, или дом, который все никак не достроят, или бесконечные восстановительные работы с их пылью, грудами хлама и объездными путями. Нет, мы должны вернуть свой город и сделаем это быстро, ко вторым Нерониям[50 - Неронии – игры, учрежденные императором Нероном для прославления самого себя; состояли в музыкальных состязаниях, в беге и т. п.], то есть через год с небольшим. И когда этот день настанет, вы пройдете по новым, мощенным каменными плитами широким улицам мимо вновь отстроенных домов в открытый вестибюль Золотого дома, где мы устроим грандиозный пир.
Вначале мне хотелось описать им все в деталях, но теперь я стал сомневаться в том, что это пойдет на пользу моему проекту.
И тут встал недавно избранный сенатор Лукан:
– А разве тот или те, кто повинны в Великом пожаре, не должны понести наказание?
– Как такое возможно, коль скоро пожар возник от случайного возгорания? – удивился я. – Кто-то мог задеть и уронить лампу. Пусть так, но это еще не значит, что он сделал это намеренно. Этот человек и сейчас может не сознавать, что стал невольным поджигателем… Если он вообще сумел выжить в огне.
– Люди проклинают того, кто начал пожар, – упорствовал Лукан. – Они не называют имен, но, похоже, уверены в том, что поджигатель был.
– И то, что они не называют имя поджигателя, тоже о многом говорит, – подхватил Сцевин. – Возможно, они просто не осмеливаются его назвать.
С тем же успехом он мог ткнуть в меня пальцем и, как пророк Натан царю Давиду, заявить: «Ты – тот человек!»
Но Сцевин не был пророком, а я, в отличие от увлекшегося Батшевой[51 - Батшева (Вирсавия) – вдова Урии-хитийца, одного из военачальников войска царя Давида, после смерти мужа ставшая женой царя Давида. Батшева была матерью царя Соломона, сына и наследника Давида.] Давида, был невиновен и не стал смиренно признавать свой грех.
Более того, эти непрекращающиеся обвинения начали выводить меня из себя. И… что, если правда? Что, если кто-то намеренно разжег Великий пожар? Люди не верили в то, что эта беда обрушилась на них по воле случая, но не могли найти виновных. И поэтому во всем винили меня.
– Итак, сенаторы, – мрачно произнес я, – теперь я обязуюсь не только восстановить наш город, но и найти и наказать поджигателей, если таковые вообще существуют. Однако сначала надо умилостивить богов Рима за осквернение и уничтожение их святынь этими злодеями, кем бы они ни были.
И это были не пустые слова, их должны были услышать те, кто посмел заподозрить меня в подобном злодеянии, причем кто-то из них мог в этот момент присутствовать в курии.
Больше никто из сенаторов не пожелал взять слово. Я их распустил одним императорским жестом, а потом и сам медленно вышел из курии на залитый ярким солнечным светом Форум.
Моя пурпурная тога переливалась и словно бы нашептывала: «Помни, ты – император, ты правишь, не они».
Стоявшие на страже у дверей курии преторианцы Фений и Субрий хранили молчание, лица их оставались непроницаемыми.
* * *
– Это было то? еще удовольствие, – сказал я Поппее, когда мы остались наедине в наших покоях.
Фений и Субрий ретировались сразу, как только мы вернулись во дворец. Я послал за слугой, который помог мне избавиться от тяжелой для такой жаркой погоды тоги. Глядя на это аккуратно сложенное императорское одеяние, я вдруг подумал о том, сколько моллюсков перемололи ради его окраски. Притом что такого насыщенного цвета можно было достичь только после двух последовательных окрасок.
– Но ты ведь и не рассчитывал на другой прием? – пожала плечами Поппея. – Вряд ли найдутся желающие аплодировать твоему плану по восстановлению Рима.
– Сенат давно уже вялый и покорный, так с чего ему меняться?
Я опустился на скамью с мягкими подушками и жестом велел слуге подать чашу с «напитком Нерона» – охлажденной снегом кипяченой водой. Казалось бы, ничего особенного, но, на мой вкус, это был самый освежающий напиток из всех, и его запасы у меня во дворце никогда не заканчивались.
Как только у меня в руке оказалась чаша с «напитком Нерона», я осушил ее залпом. В курии я чуть не умер и от жары, и от жажды.
Поппея тоже жестом приказала принести себе мой напиток и, отпив немного, проговорила:
– Они согласились с тем, что смерть твоей матери наступила в результате самоубийства, после того, как было раскрыто ее участие в заговоре против императора. Признай, Сенека придумал для тебя отличную версию защиты.
Сенаторы готовы голосовать за любое твое предложение, но сейчас все несколько иначе. Во-первых, ты решил преобразовать все устройство Рима. А во-вторых, и, возможно, это для них самое главное, твоя идея будет стоить им немалых денег. Когда они признали твою мать виновной, это им ничего не стоило. Как ничего не стоило и согласиться с тем, что твои речи должны выгравировать на серебряных табличках и зачитывать по всей империи. Но этот твой проект ударит их в самое болезненное место – по их кошелькам. Кое-кто из них, благодаря твоему перепланированию Рима, потеряет дорогостоящую недвижимость в самом центре города.
– Тут ты права, – согласился я. – Но Великий пожар всем дорого обошелся. – Я рассеянно похлопал ладонью по аккуратно сложенной пурпурной тоге.
– Тебя еще что-то беспокоит, – заметила Поппея.
Как же хорошо она меня знала! Мы всегда видели друг в друге собственное отражение, разделяли одни и те же чувства и перемены в настроении.
И тут я сорвался:
– Они продолжают винить меня! Думают, что это я начал Великий пожар!
– Кто эти они?
– Все! Сенатор Сцевин обвинил меня практически напрямую. И никто не стал ему возражать: они просто сидели и молча на меня пялились!
– Сцевин – напыщенный сноб, – усмехнулась Поппея. – К нему вообще не стоит прислушиваться.
– А мне показалось, что к нему очень даже прислушиваются. И Лукан сказал, что люди проклинают того, кто начал пожар, но имени его не называют. То есть опасаются, что когда произнесут имя вслух, то вызовут гнев могущественного человека… императора.
– Лукан? – Поппея скривилась. – Этот поэт и племянник Сенеки? Он тебе завидует, потому что ты пишешь гораздо лучше его.
– Нет. – Я покачал головой. – Дело не только в этом и не только в сенаторах. – (Что касается поэтического дара Лукана, он был очень талантлив и в нашем соперничестве «дышал мне в спину».) – Несколько дней назад мой давний учитель кифаред Терпний сказал мне, что ходят слухи, будто я, пока полыхал Рим, пел свою поэму «Падение Трои». И что хуже всего, он в это поверил. Я знаю, что поверил, видел по его глазам. А еще ходят слухи, будто я сам разжег Великий пожар, чтобы потом перестроить Рим и переименовать в свою честь. Думаю, есть история, сложенная из этих двух частей, и звучит она так: Нерон поджег Рим, взобрался на какую-то башню, схватил кифару и стал распевать «Падение Трои», мечтая назвать Вечный город своим именем.
Меня охватил гнев, но он не смог придушить вызванную всеми этими обвинениями тоску и мерзкое ощущение, что меня предали и мой народ, и мой Сенат.
– Я не говорил тебе об этом, хотя следовало.
Поппея подошла ко мне со спины, обняла за плечи и прижалась губами к затылку. Мы сплели пальцы.
– Ты должен обо всем мне рассказывать. Ты ведь знаешь – мы одно целое, и так будет всегда.
– Да. – Я крепче стиснул ее пальцы. – Мы – одно целое.
Поппея слегка боднула меня головой и спросила:
– А что, если пожар действительно начался не случайно? Что, если был поджигатель или поджигатели? Такое ведь возможно.
– Но с какой целью им это делать?
Поппея задумалась. Я ждал.