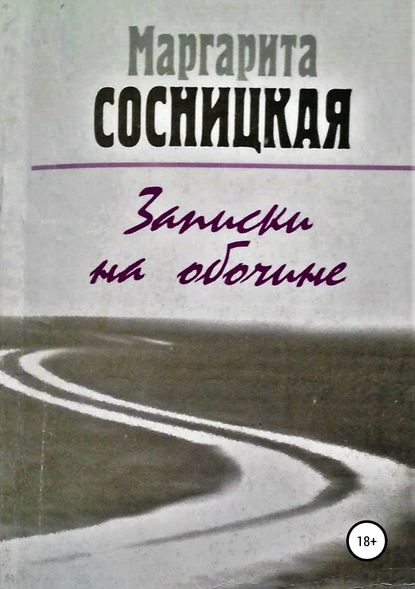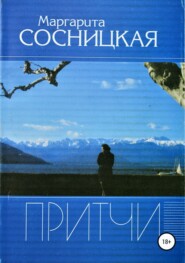По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Записки на обочине. Рассказы
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ей никто не ответил.
Люся стояла в коридоре и ждала. Страшный крик санитарки ее настиг в затылок.
Люся прислонилась к стене и поползла вниз. В тумане, в жидком киселе она видела, как мимо нее пробежали медсестры, кто-то из больных, Виктор Платонович…
Степан душа не принял. Повесился на полотенце, привязав его к трубе.
У Люси началась горячка. Жуткий припадок случился на похоронах, когда она увидела Степана в том самом выпускном костюме.
Виктор Платонович, как только мог, приходил к ней и сидел рядом. Или стоял у окна и мрачно курил. Табачный дым выводил вопросительные знаки. В воздухе висел, кричал, расшатывал тишину тиканьем будильника один вопрос: почему? Почему Степан это сделал? По-че-му?
– Не мог он… до операции?! – не выдержал, закричал Виктор Платонович.
Люся посмотрела на него и отвернулась к стенке.
– Не мог.
Виктор Петрович вздрогнул от ее металлического голоса.
– Но почему после смог?
– Он был герой. Жить с такой ногой, с такой болью – надо быть героем. Он был им восемь лет. Боль давала ему возможность быть героем. А когда ее не стало, больше не нужно было быть героем. Он не смог быть обыкновенным человеком.
Вы его им сделали, Виктор Платонович.
Две куклы
1
Кто ездил поездом Москва – Донецк, попадет в рай. Бурые окна, грязные полки, по шесть человек с детьми и мешками в проходных отсеках, один на весь вагон туалет с невысыхающей рыжей лужей под ногами, ни капли питьевой воды, таможня и стоянки, бесконечные и бесчисленные стоянки чуть ли не в чистом поле, на каких-то мелких безымянных полустанках. На эти стоянки уходит почти десять часов. И вместо того, чтобы прибыть домой в восемь вечера, обмыться, поужинать и лечь спать на чистые простыни, надо трястись в продуваемом сквозняками, провонявшимся носками и туалетом вагоне еще ночь. Но, как говорят французы, пасьянс, пасьянс и пасьянс, что значит терпение, терпение и терпение. И немного философии. На стоянках можно выйти из вагона, размять ноги, хлебнуть голоток свежего воздуха. В дороге в тысячу километров это немаловажно и для здоровья полезно.
В городе Валуйках поезд стоит час. На вокзале бойко идет торговля. В киоске можно купить четыре пирожка с мясом. Четыре и не меньше. Потому что самая ходовая купюра – сотня. Пирожок стоит два с половиной червонца, а сдачу давать нечем. Сдачу, если берете другой товар: ситро, или там плитку импортного шоколада, дают пирожками. Здесь же, вдоль состава, торгуют купонами за рубли, рублями за купоны, мороженым, вареной картошкой с укропом, малосольными огурцами, пивом и абрикосами на ведро. Восьмилетняя Катя идет вдоль торгующего ряда, выложившего свое добро прямо на землю, лижет ярко-розовое мороженое и не слышит, как тетка кричит ей:
– Да, кусай ты его! Оно ж расстало, течет в три ручья!
Кате все интересно. Такого она никогда не видела. Женщин в цветных платочках бабулек с мисками съестного, инвалида без ног на доске с колесами, торгующего пустыми бутылками, тройку облезлых собак, роющихся в урной. Кате весело. Она родилась за границей и первый раз на своей, не на теткиной или отцовой, памяти едет к бабушке. Мороженое, больше половины, падает на землю и расползается в розовую кляксу.
– Ух, бы мне всыпал папка, – слышит Катя и поворачивается, – если б я так харчами разбрасывалась!
Рядом стоит девочка, чуть поменьше Кати, хорошенькая, сероглазая, без передних зубов, отчего буква «с» у нее выходит как «ф» – «ефли б», с расплетенной до половины длинной косой.
– А, – говорит Катя, – ничего. Сладкое вредно есть.
– Это врединам вредно, – отвечает девочка, – а мне хорошо.
– А зубы, зубы, – смеется необидчивая Катя и показывает свои, ровненькие. – У меня уже новые.
– Катя, Катя! – зовет молодой человек в рубахе навыпуск. – Ты где? Ты ж знаешь, шо я тебе сделаю!
Хватает девочку с косой, оказывается, тоже Катю, за руку и тащит за собой.
Поезд свистит и вздрагивает, на перроне начинается беготня, Катю тоже хватают за руку, бегут с ней к вагону, подсаживают на ступеньки…Но тревога ложная. Поезд еще будет стоять десять минут. Здесь, в тамбуре, они встречаются снова, Катя французская русского разлива и Катя донецкая. Кате французской тетка, да и отец перед отъездом, строго-настрого запретили выбалтывать, откуда они едут – поезд из Москвы, значит, и они из Москвы и ни слова больше.
– Почему? Почему? – выпытывала Катя.
– Потому, – рычала тетка. – Чтоб за иностранцев не приняли.
– Почему? Почему?
– Потому что мы не иностранцы!
– Почему?
– Потому! – рычала тетка.
Зато Катя донецкая все про себя рассказала. И что папка у нее шахтер, а шахту закрыли, она обваливалась, и что ездили они к тетке в Звенигород, на каникулы, там речка и подружка, тоже Катя, а в детсадике у них, в группе три Кати, и во дворе, в Донецке, две Кати, и вот в поезде тоже Катю встретила. Одни Кати.
Тетка французской Кати стояла рядом, слушала и вздыхала. Уж она ни за что не хотела бы, чтобы ее племянницу звали таким заезженным именем. Но тогда, восемь лет назад, Катя – это звучало ново, модно, с налетом старины. И вот на тебе. На каждом шагу Кати. А ведь у матери была мысль записать дочь Эвелиной. Но в последнюю минуту что-то в голову стукнуло и записали Екатериной. О-хо-хо… Видно, дух святой Екатерины тогда в силу вошел…
Катя донецкая ехала в том же вагоне, что и Катя французская. Девочки стали бегать друг к другу, задевая спящих за пятки.
Катя французская потребовала, чтобы тетка достала ей куклу с одежками. Тетка нахмурилась, но достала. Кукла была порочная. На куклу непохожая. Крутые бедра, узкая талия, высокий бюст. Короче, Барби. С надушенными золотыми волосами до пят, можно косы плести. И платьица – газовые розовые, изумрудные бархатные, золотые цирковые с такими же золотыми сапожками да еще на застежках.
Катя донецкая ухватилась за куклу, раздевала ее, одевала, делала ей прически, изображала с ней танцы и скачки на коне. Девочки притихли и возились в уголке у окна. Тетка, довольная, что за ними не нужно присматривать, раскрыла книжку и углубилась в чтение. Пришел донецкий папа спросить, не мешает ли Катька, а то он ее… Но девочка восторженно стала показывать ему куклу и вопрос отпал сам по себе. Папа пожал плечами и ушел. Через какое-то время девочки пошептались, встали и исчезли. Сколько времени прошло – неизвестно; страниц пять, за которые тетка успела побывать в монгольских степях, – Катя французская вернулась одна, села около тетки и прижалась к ней головой.
– А где ж твоя подружка? – спросила тетка.
Катя махнула рукой в ту сторону вагона, где было ее, подружки, место.
– А что ж вы не играете?
– Они едят.
– А где ж твоя лялька?
Девочка потерлась щекой о теткино плечо:
– Подарила.
– Как? Твою Барби?
– А, надоела Барбоска.
– Что? На тебе, Боже, что нам не гоже? – подняла брови тетка.
– А. Ничего ты не понимаешь, тетя, – безнадежно произнесла девочка. – Просто у той Кати никогда не было куклы. Она хотела куклу, а папа не покупал. Катя стала его просить, чтоб он купил ей такую Барбоску. А он ругает ее, злится, не приставай, что я тебе воровать пойду? Прилипла. А я сказала: дарю, кукла теперь вашей Кати.
– И тебе не жалко?