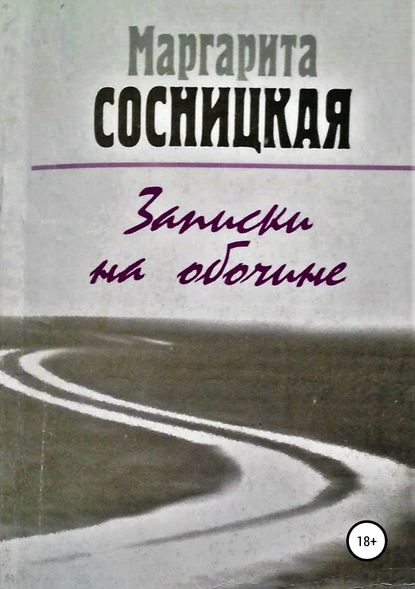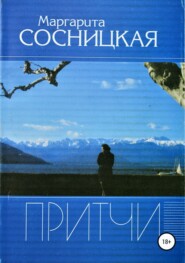По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Записки на обочине. Рассказы
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Немой поединок
Голубенький, хорошенький, он лежал в почтовом ящике как раз так, что угол его виднелся в прорези. Ольга Кириллова заволновалась, никак не могла попасть ключиком, чтобы открыть ящик, а когда открыла, взяла конверт двумя пальчиками с любопытством и опаской.
И действительно, на конверте тонким черным пером был выведен ее адрес и фамилия с невероятным завитком барокко на букве «К»; обратного адреса не стояло.
– Так и знала, – поняла свою опаску Кириллова, поспешно поднялась по лестнице, зашла домой и положила письмо на стол.
Ее лихорадило от любопытства, но именно поэтому было страшно разрывать конверт: что в нем? какая новость? «Чей привет?» Или навет?
Она пошла на кухню, помыла забытые чашки, тщательно протерла и поставила на полку. Огляделась: везде порядок. Делать нечего – надо распечатывать конверт.
«Ах, Кириллова, Кириллова (не называть же мне тебя Ольгой!), могла ли я подумать, что буду тебе писать. Я ненавидела тебя! Строила то изощренные, то грубые, топорные планы, как развести тебя с Гринем, так я звала твоего Григория, когда он любил меня, когда валялся у моих ног, сулил и строил планы развода, которые, подлый, оттягивал. Знаешь ли ты, что летом в экспедицию на Северные озера (тебе сказал «суровый климат, мошкара, антисанитарные условия…») он брал меня. Мы жили в избе, чердак был завален диковинными поделками по дереву, в лесу лежал красный ковер из ягод. Мы собирали их, и целыми днями я колдовала над вареньем – даже тебе перепала банка. Помнишь, земляничное? В конечном счете, мне было жаль тебя: дома, одна, в ожидании скудных вестей, наглаживаешь ему рубашки и не представляешь, сколько еще их ждет тебя в брезентовом мешке после экспедиции.
Мы уходили по озерам на лодках, встречали солнце, видели, как оно озаряло первыми лучами заброшенный монастырь. Я была потрясена и в то же время вознесена этой… даже не красотой, а первобытностью, и еще любовью… Или не знаю, как иначе назвать то состояние, которое освобождало меня внутри до такой степени, что я начала рисовать. Пятнами, цветовыми пятнами… Никогда раньше кисточки в руках не держала. У приятеля, он любитель, взяла краски, холст и рисовала пятнами. Они передавали все, что я пережила в те дни. Благодаря Гриню я заново родилась. Для меня все было решено. Единственной помехой была ты, Кириллова. Или как тебя там, в девичестве. Но женился-то Гринь до меня, я так рассуждала. Ты была данностью, а не любовью. Любовью была я. И прощала ему тебя, ожидая, когда он сам дозреет до планов на будущее со мной. Однако было ясно, что раз он темнит, не открывается тебе, то значит не все так просто, и я люто восхищалась тобой: это было нелегко – составить мне конкуренцию в расцвете нашей любви.
Осенью мы часто выходили в консерваторию, иногда в театр или в гости (ты-то думала, на собрания…). Еще чуть-чуть и я бы сама, без ведома Гриня, пришла бы к тебе поставить точки над i. Но вдруг он мне: срочное собрание, увидимся потом – суп с котом. И раз, и два. И сверхсрочная командировка, и спецзадание. Я не представляла, что он мне, мне, может лгать. Как тебе…
И вот, когда он был в «командировке», звонит мне знакомый из «Гаваны», юбилей там справлял, и говорит: «Здесь твой Гринь с дамой ужинают». «Вре-ошь!» – я закричала, кажется, трубку расколотила, а сама на такси, думаю, сейчас задушу тебя, вцеплюсь зубами в горло и повисну. Прилетаю, а он выходит с «дамой». Господи, да это же Люська, рыжая, я сама его в гости к ней водила! Такси подъехало за ними. Я как стояла, так и осталась стоять на месте, будто меня молнией поразило.
Кириллова! Я прошу тебя, умоляю, выгони ты этого негодяя. Он изменяет тебе с каждой первой встречной, он бросит тебя, как только подвернется момент. Так не жди ты этого унижения, сделай шаг первой, и он будет казнить себя до конца дней!
Прилагаю свидетелей его измены – фотокарточки.
8 октября 1992 года.»
И в качестве подписи:
«Твоя соперница, твоя сообщница».
Ольга стала рассматривать фотографии. Хорошие, цветные, две.
На одной Кириллов в маскировочной рубахе и панаме сидит в траве со смеющейся женщиной. Волосы у женщины пышные, волнистые – красивые волосы, а улыбка, вернее, смех беспамятный. Кириллов стиснул в зубах травинку.
– Угу, на озерах, – поняла Ольга, – с соперницей-сообщницей.
Таким она помнит его в институтские годы, в походах с ночевкой. И потом, эта травинка – знак внимательности, сосредоточенности Кириллова. Ольга поморщилась: она считала, что таким он может быть только с ней. Несмотря на всю красочность фотобумаги, было видно, что Кириллов выцвел, выгорел на солнце, и это его молодило, сближало с тем институтским времечком. Тогда они поженились и поклялись в вечной любви.
Другой фотокарточке не хватало резкости. Кириллов шел на ней под руку с молодой девицей. Юбка сильно обтягивала ей ноги, стесняла шаг. Девица смотрела в сторону, и волосы были закручены на макушке в узел.
– Ух, ты, – вырвалось у Ольги, – ведьма какая!
Ее отвлек шум входной двери. Она быстро сгребла письмо и снимки в ящик и пошла встречать мужа.
Он чмокнул ее в прихожей и стал умываться.
– Ужинать не будешь? – спросила она, прислоняясь к косяку у двери ванной. – Собрание?
Григорий коротко вздохнул.
– Замотали меня с этими собраниями. Не пойду сегодня.
– А завтра?
– Ну, уж завтра суббота. Меня и пряником не выманишь. Да и соскучился я по твоим блинам.
– С земляничным вареньем? – усмехнулась Ольга.
Кириллов скривился, как от лимона:
– Лучше с яблоками и со сметаной.
Ольга подкинула ему полотенце и пошла замешивать муку на блины.
Кириллов стал набирать воды в ванну.
Когда он закрылся, Ольга на цыпочках прошла в комнату, взяла из ящика письмо, фотографии и голубой конверт. Порвала на мелкие кусочки – еще подумает, что шпионила – и сожгла в пепельнице на кухне.
Матери-одиночки
Зинаида
У ее прабабушки было семнадцатеро душ детей. Она вен-чалась с прадедом Иваном в пуповской церкви и прожи-ла всю жизнь на своем подворье, кроме как в район на ярмарку не ездила, и все семнадцатеро Ивановичей и Ивановн были живы-здоровы; бабушка, одна из дочек прабабушки, венчалась в той же церкви с дедом Григорием, и было у нее четырнадцатеро детей. Половину из них она растеряла в разные лета от разных напастей, а под конец жизни ездила на паровозе. Боялась в него садиться, но за мылом и солью тогда ездили в губернский центр, она перекрестилась, зажмурилась и влезла в чмыхающий, чертыхающийся паровоз. А у Зинаиды всего десятеро детей. Ей было шестнадцать, когда из города начали присылать работников то на полевые работы, то на постройку дороги. Работники из них были никудышние, к сельскому делу неприученные – ни знания, ни терпения к нему не имели – зато погулять на вечеринках, с пуповскими девчатами на лавочке семечки полузгать – это медом не корми. А Зинаида была видная, крупная, в шестнадцать лет тянула на все двадцать, по развитию, по тонкой талии, по груди высокой и по бровям мягким, круглым, ласковым. Смеялась она громко, заливисто и в разговор вступала охотно: ей все интересно было. И один из работников, гитарист, на досуге, особо ладно ей байки рассказывал, да когда песни пел под гитару с лентой, в глаза ей смотрел и щурился, а после провожать пошел, хотя что там в деревне провожать – три двора прошел и уже дома. Но как бы там ни было, около третьего двора задержались, застоялись, заговорились. И так весь месяц, пока полевые работы шли. О Зинаиде и гитаристе уже не шептать, а в открытую говорить стали, когда время работ вышло и гитарист взял подмышку гитару, запрыгнул в кузов грузовика, который доставлял их на станцию, и помахал Зине рукой. Зина тоже помахала и осталась стоять на дороге. Да не одна осталась, а с будущим потомством, которое не замедлило появиться в назначенный срок. Люди давно не судачили о ней, ругали городского гуляку и жалели Зинаиду. А у Зинаиды вид был цветущий, она похорошела, румянцем налилась, всё смеялась и с младенцем своим играла.
На следующий год приехали новые работники и опять у Зинаиды вышло приключение. Работники укатили, а Зинаиду Бог двойней пожаловал. Мальчиками. Тут колхоз выделил ей отдельную хату и стал хлеб на дом завозить матери-одиночке: мать-то одиночка, а детишек – трое, – в помощь.
Больше Зинаида городскими не интересовалась. Свои сельские стали интересоваться ею и захаживать. И что ни год, то приплод. Один очень походил на комбайнера Ваську, другой на шофера Лешку (у того своих трое да жена в хозяйстве), третий на тракториста Тольку.
Зинаиду все по имени-отчеству величать стали, Зинаидой Ивановной, соседи, кто мог, нес ей то меду, то яиц, не говоря про Ваську, Лешку, Тольку. Те при случае закидывали то корму для скотины, то платок, то для ребятни какую пару башмаков любого размера: ни одному, так другому сгодиться. Зинаида уже путала, кто какого отца из ее сыновей и дочек, только по отчествам и вспоминала, а фамилия у всех была одна, Зинаидына – Талалай. Люди же ее детей звали Зинаидычами.
Колхоз ей отпустил из своих стад корову, свиней, трех коз, поставил телефон – единственный на все село, и к ней ходили звонить, особенно те, у кого дети уехали из дому, и Зинаида никому не отказывала. При встрече ей кланялись, а за глаза говорили «Зинаида Ивановна, она ж святая, ни от одного дитеныша не избавилась. Мать-героиня».
Отец шестого Зинаидыча Толька мало-помалу прибился ко двору Зинаиды Ивановны и стал жить там, как жила ее корова или козы. После рождения второго Анатольича Толька сделал Зинаиде Ивановне предложение и они расписались в сельсовете. Свадьбу опять же устроил колхоз. Поставил во дворе сельсовета длинным рядом столов и позвал народ, чтобы каждый приходил со своей закуской, а водка будет казенная. Народ нес закуску коризинами. Все тут было: и пироги, и пышки, и запеканки, и пряники, и паляницы, и холодцы, свиной и петушиный, и соленья, и яблоки с арбузами моченые, и огурчики-помидорчики, и колбаса домашняя, и варенье вишневое, с крупными вишнями в густом тягучем соку, и чего только душа не пожелает. У Зинаиды Ивановны, матери семерых детей, на гладком румяном лице не было ни морщинки, ни складочки, волосы ее были зачесаны назад и убраны веночком из живых цветов, а нарядное темно-красное платье делало ее стройней обычного и даже подчеркивало остатки былой тонкой талии. Да и люди не привыкли ее видеть такой праздничной, нарядной; всегда она была в простой юбке да кофте, в которой ходила по хозяйству и за детьми. Усаживала их с утра за стол на лавку, ставила миску яиц крутых и по одному катила каждому, сначала старшеньким, в конце стола, потом младшеньким, поближе. Яйца катились с грохотом, дети ловили их и пускали по кругу солонку. А теперь вот на свадьбе мать их была совсем молодицей. Взяла в руки платок, да еще сплясала под гармошку. И все было бы хорошо, если бы Толька не напился в дым. Не разобрался, когда время было остановиться, а гости все подливали и подливали, и он перебрал. Так перебрал, что домой, к Зинаиде Ивановне, его отнесли на руках. Он и раньше прикладывался к горькой, но до такой степени в первый раз. Зинаида Ивановна, видя храпящего пьяного мужа, унывать не стала, а легла спать, как обычно, с детьми – в ее жизни ничего не изменилось.
Зато изменилось в жизни Тольки. Он проснулся, похмелился и узнал, что он женат. Дошло до него после перепоя, отшибшего память. И женат не на девице, а на многодетной матери, и дети у нее все с разными отчествами. Это вдруг кольнуло трактористово самолюбие, он причесался и посмотрел в зеркало. Что ж, парень вполне, мог бы себе и неневестную отыскать. Что ж он так опростоволосился, последний после всех на бабе женился?
Прибежал старшенький Анатольич – шестой Зинаидын – стал на руки карабкаться, клекотать что-то на сладком детском языке. Толька подержал его, подержал, не слушая – мысли черные слух застилали, – поставил на землю и шлепнул: иди, гуляй. Сам ушел на работу и вернулся оттуда пьян и тут уж излил свою обиду на жену: обозвал ее по – всякому. Зинаида Ивановна рот открыла от удивления: такое она впервые слыхала.
Сцена была шумная, с бабьими и детскими криками на всю хату, на весь двор и по соседским дворам разошлась. Пошел слух, что муж бьет Зинаиду Ивановну. Когда крики повторились и раз, и два, Тольку подловили на посадке Васька и Лешка и пара других пуповских мужиков, всыпали ему и предупредили, что если он еще раз тронет Зинаиду, от него мокрого места не останется. Толька приполз домой по-пластунски и последовал прямо на сеновал. Там и отлеживался две недели.
После этого он стал смирным, стал пить по-тихому, хозяйством не интересовался, разве что свой трактор не забрасывал. Мало-помалу к нему прилепилась кличка Зинаидыча. А зинаидычей прибыло. Теперь их, не считая Тольки, было десятеро, и все для приличия ли, в соответствии ли с действительностью записаны были Анатольевичами.
Люди Зинаиде Ивановне при встрече кланялись. Благодаря числу ее детворы в Пуповке не закрыли школу и оставили медпункт с фельдшером между тем, как в соседних селах убрали, и детишки оттуда ходили учиться в Пуповку. Ей одной из всего села, не считая собственных родичей, присылала открытки к Новому году сама Аделаида Мостовая – заслуженный и широко известный общественный деятель.
Аделаида
Она родилась в Пуповке в том самом медпункте, который до сих пор не закрыли, в том же самом году, что и Зинаида. Но ей повезло меньше, чем Зинаиде: в пятилетнем возрасте ее увезли в город. Вынули из храма природы, каковым была Пуповка с ее небом, не заслоненными высотками, с ее полями, не погребенными асфальтом, и поместили в город. Она чахла, хирела, но все-таки одужала и прижилась. В Пуповку ездила только на каникулы, да и то с годами все реже и реже – город засосал. И не столько город, сколько Аделаидыны таланты и амбиции. Она оказалась способной к науке, и учителя хором твердили, что нет большего счастья, чем учиться в высшем учебном заведении.
И Аделаида вся сосредоточилась на этом. После школы она поступила в областной университет и почти погребла себя в читальных залах. Не дала сделать этого до конца ее красота. К восемнадцати годам Аделаида сделалась писаной красавицей и молодые люди не давали ей проходу. Она нашла, что флирт с ними очень хорошо помогает отдохнуть от трудов библиотеки. Но хорошую книгу она считала занимательней молодых людей. И потом они ее интересовали только для галочки в донжуанском списке, покорила, влюблен, в сторону. Ей было занятно испытывать силу своих чар. Это как способность к наукам: усилия минимальные, а результаты оптимальные. Если же кто из молодых людей пытался пойти далее дежурного флирта, Аделаида обрывала знакомство.