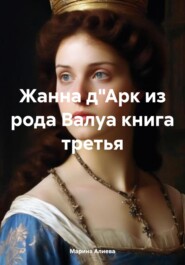По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жанна д'Арк из рода Валуа. Книга 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Взять, к примеру, одного из знатнейших дворян королевства – Луи Второго Анжуйского. Его отец – брат всесильного Филиппа Бургундского, первый герцог Анжуйской ветви и второй сын Иоанна Доброго – оставил сыну обширные территории богатейшего герцогства и номинальные титулы короля Сицилии и Неаполя. Покровительство такого человека очень бы пригодилось епископу в деле объединения церкви, которым он давно и безуспешно занимался. Но как к такому подступиться?!
Не приносящие особых побед разорительные военные походы, которые Луи Второй, продолжая дело отца, регулярно снаряжал в Италию, отвратили его от дел французского королевства. А турниры, до которых герцог был очень охоч, не входили в сферу деятельности священнослужителя. И останься положение дел таким как есть, епископу пришлось бы искать покровительство в другом месте.
Но тут в дело вмешалась вдовая герцогиня Мари де Блуа! Эта дама нашла способ помочь сыну в его итальянских притязаниях и занялась устройством брака с арагонской принцессой Виолантой, тоже носившей номинальные титулы королевы Неаполя и Сицилии,
И вот это уже была удача! Да ещё с таким пушистым хвостом, что грех не ухватиться, ибо арагонская принцесса приходилась епископу не кем иным, как родной племянницей!
Поёрзав в кресле, азартно потирая руки, он тут же взялся за дело!
Несколько ловко составленных писем, пара задушевных бесед с нужными людьми – и вот уже епископ сидит перед герцогиней в Анжере как человек, в чьей помощи нуждаются.
– Поговорите с моим сыном, – сказала тогда её светлость. – Но я вам уже рада. И, поверьте, в долгу мы не останемся…
Блеск в глазах Луи Анжуйского яснее ясного дал понять, что наживку он тоже оценил.
Письмо, в котором недвусмысленно звучало разрешение начинать сватовство, епископ получил от него так скоро, что в другое время счел бы подобную спешку даже неприличной. Но сейчас, радуясь, что не ошибся, он складно и ловко надиктовал пышное многословное послание Арагонскому королю и отправил с личным гонцом и с единственным требованием – нигде не задерживаться.
Письмо, перенасыщенное лестью в адрес всех заинтересованных сторон, уведомляющее о скором приезде самого епископа и о его страстном желании повидать «драгоценную племянницу» для того, чтобы предложить ей крайне выгодный и достойный брак!
При этом епископ даже не предполагал, насколько своевременным окажется его приезд в Сарагоссу. И, уж конечно, он не мог знать, что где-то в высших сферах, недоступных ничьему пониманию, кто-то уже вложил сватовство герцога Анжуйского к Виоланте Арагонской, как крупицу мозаики, в давно составляемый узор из сложного переплетения судеб и событий, и сватовство это легло там прочно и основательно, как и положено событиям, что дают Истории новый толчок, поворот или новую легенду.
3
Провожатый наконец остановился перед портьерой с мавританскими узорами и, почтительно приподняв её, пропустил гостя внутрь.
«Господи, помоги мне! – мысленно вздохнул епископ. – Девица, конечно, перезрела – двадцать лет, а все не замужем. Но, кто знает, может от таких-то как раз беды и жди. Начнет сейчас выяснять – каков собой, набожен ли, добродетелен… А потом еще, не приведи Господи, соберется «подумать»! Вот уж совсем некстати. Время не терпит, мало ли что теперь в Европе начнется? Надо как можно скорее решить вопрос с этим браком, да возвращаться домой. Дело о созыве Пизанского собора висит на волоске, а голос Луи Анжуйского в решении вопроса о необходимости его созыва дорогого стоит! Порадую его удачным сватовством, и тем вернее он склонит слух к нашим уговорам. Собор изберет нового папу, а новый папа… – дай, Господи, чтобы им оказался тот, кто нужен! – новый папа вернёт церкви единоначалие! Тогда и о выходке сэра Генри можно сильно не беспокоиться. Голос единой церкви перекроет целый хор королевских выкриков! Но, но…»
Лицо епископа скисло и скривилось. Как все-таки неприятно зависеть от кого-либо, тем белее от перезрелой набожной девицы! Король накануне намекнул на ее желание всё-таки уйти в монастырь. Вот была бы глупость!
Караульный за портьерой, заметил недовольство на лице прибывшего важного гостя, и торопливо стукнул об пол алебардой. Тут же, справа от входа, открылась высокая резная дверь, откуда навстречу святому отцу степенно выползла одетая во все черное дуэнья со злым лицом. Кивком головы она отпустила провожатого, а на епископа взглянула с откровенной неприязнью.
«Ну вот, начинается, – подумал он. – Не успел прийти – сразу вызвал недовольство. Как бы еще эти мамки-няньки не вмешались и не уговорили девицу на постриг! Не зря, ох не зря, торопил меня герцог! Как чувствовал…»
На всякий случай он осенил дуэнью небрежным крестным знамением и протянул руку для поцелуя. Но старуха только взялась за его пальцы своими – холодными и жесткими, и епископа передернуло от этого прикосновения, как будто по руке пробежал липкими лапами паук.
– Принцесса ждет вас, – проскрипела дуэнья, поджимая с укором и без того морщинистый рот. – Давно ждет.
«Дура! – мысленно выругался епископ. – Тут такие дела творятся! Я что – должен был сказать гонцу, который без отдыха скакал от самой границы, мол, подожди, любезный, я сначала схожу посватаюсь, а потом послушаю про дела в Англии?! И без того голова кругом… Опоздал-то всего на полчаса, а старая идиотка уже кривится. Черт их подери совсем! Испанские бабы! На уме одни молитвы да свадьбы…»
И епископ в великом раздражении переступил порог.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ВИОЛАНТА
Арагонская принцесса Виоланта с раннего детства была воспитана в твердом убеждении, что королевская власть дается Всевышним не столько, как право, сколько как тяжелейшая обязанность.
Верная этому убеждению она с ранней юности предпочитала танцам, лютневой игре, вышиванию и прочим девичьим делам чтение книг с описанием царствований славнейших монархов Европы, изучала причины и ход наиболее выдающихся войн и сражений и не краснела от брезгливости, слушая европейские придворные сплетни, которыми развлекали фрейлины ее француженку-мать.
Однако ранняя смерть родителей, заставшая её врасплох в тринадцать лет – то есть, в таком возрасте, когда дверь во взрослую жизнь только-только открывается – внесла свои коррективы в королевское воспитание юной Виоланты. Если раньше еще можно было надеяться на несколько лет безмятежности, то теперь многое пришлось подавить в себе, как низкий простолюдинный бунт. И особенно романтические мечты о любви и прекрасном возлюбленном.
Отныне слабостей принцесса себе позволить не могла.
Отцовский трон занял дядя Мартин, а сама Виоланта стала центром притяжения оппозиции, и начались новые уроки – уроки недоговоренностей, полунамеков и иносказаний, интриг и предательств, которые начисто стерли из памяти все благородно-поэтические книжные представления о власти и подпирающих её основах.
Реальность была груба. Но девочке, которая давно уже без удовольствия рассматривала себя в зеркале, она вдруг открыла безграничные возможности оказывать влияние на других и добиваться своего одним хорошо организованным, расчетливым умом, не прибегая к помощи ненадежного очарования. И нерастраченная страстность – дар от испанца-отца – едва не затянула ее в воронку политических интриг с головой.
Упиваясь новым, стремительно возрастающим умением перемещать людей, как фигурки в балагане, Виоланта чуть было не зашла слишком далеко. Но в один прекрасный день приправленный изрядной хитрецой французский ум матери воззвал к твердым убеждениям, и, на пороге междоусобиц и едва ли не гражданской войны, девушка вдруг одумалась и замерла.
Что дальше?
Просчитать все возможные варианты развития событий особого труда для нее не составило: у обойденных наследников арсенал средств не так уж и велик. И когда стало ясно, что любой путь, ведущий на трон, обязательно приведет к рекам крови, юная принцесса деликатно отмежевала себя от оппозиции и стала все чаще покидать столицу, прикрываясь как щитом набожностью.
Не говоря противникам короля ни «да», ни «нет» и не вступая в открытые противоречия с дядей, Виоланта с поразительной и немного подозрительной аккуратностью пропадала в окрестностях Сарагосы, где с недавнего времени обосновалась довольно скромная францисканская община. Принцесса оставалась там на длительные богомолья, делала дорогие подношения, стала скромна, немногословна, чем вызвала упорные слухи о скором своём постриге.
Обрадованный король Мартин, поверить не мог, что отделался так легко и счастливо! Уход в монастырь опасной племянницы был настолько кстати, что, желая придать ускорение этому процессу, арагонский король пообещал испросить у римского папы разрешения возвести достойную базилику для скромного монашеского поселения со всеми полагающимися по монастырскому уставу постройками. И даже распорядился составить соответствующее письмо. Причем велел это не кому-нибудь, а одному из лидеров оппозиции, с наслаждением глядя при этом в его лицо, прокисающее прямо на глазах.
Подстраховался он и с другой стороны. Французские легкомысленные фрейлины давно покинули двор, и приставленные Мартином к Виоланте, заплесневелые от бесконечного девичества старухи-дуэньи изо дня в день уговаривали принцессу не противиться голосу сердца.
Их уговоры сопровождались смиренными кивками Виоланты. И лицемерные старухи, видя одну только любезную улыбку и не замечая насмешливых искорок, летевших им в спины, доносили – кто королю, а кто и перекупившим их главам оппозиции – что принцесса «внимает».
Как долго все это могло тянуться, представить трудно. Принцесса Виоланта была одинаково убедительна и в том, чтобы принять постриг, и в том, чтобы не принимать его никогда. Но оппозиция, недовольная тем, что наследница ускользает из рук вместе с надеждами на власть, подняла на ноги всю свою шпионскую сеть, и очень скоро слухи об общине, давно уже смутным туманом затянувшие простолюдный Арагон, просочились в слои высокой знати и открыли истинную причину самозабвенного увлечения принцессы.
5.
Отец Телло – очень старый, слепой приблудный монах, пришедший неизвестно откуда и попросивший когда-то в общине приюта на одну ночь, неожиданно оказался тем человеком, ради которого Виоланта совершала и свои паломничества, и благодеяния. И которого готова была слушать словно пророка.
Впрочем, он и был пророком.
Незрячие глаза Телло, неизменно устремленные в небо и такие же чистые и глубокие, казалось, вобрали в себя всю жизнь этого старца и смущали любого, кто осмеливался в них заглянуть.
Сначала братья-монахи не хотели его впускать. Чума, гуляющая по Европе, зацепила подолом и окраины Арагона – Бог знает, что мог занести в общину бродячий слепец. Но он сказал, что опасаться следует не чумы, а пожара, который случится ночью, и попросил дозволения поспать хотя бы за оградой крошечных огородов, чтобы в грядущей панике его не затоптали.
Пожар действительно случился, и убогая деревушка, на окраине которой приютились францисканцы, едва не выгорела дотла. Сама же община уцелела только потому, что её глава – человек милосердный и впечатлительный – велел на всякий случай заполнить водой пустые бочки на заднем дворе.
Утром, отыскав слепого пророка среди перепачканной сажей братии, глава общины, заикаясь от праведного негодования, потребовал ответить, почему, зная наверняка о пожаре, старик не пошел прямо в деревню и не предупредил её жителей? Но в ответ получил кроткую улыбку и простое объяснение: «Кому Господь велит говорить, тому и говорю. Мне ли мешать деяниям Его?»
Так и появился в окрестностях Сарагосы провидец Телло.
Братья-францисканцы оставили его в общине, и старик не стал сопротивляться, как, впрочем, и не удивился. Будто знал, что никуда больше отсюда не уйдет.
Хотя, может, и знал….
Он пророчествовал много, охотно и всегда верно. Вплоть до того, что если утром советовал кому-то не делать привычных дел в течении дня, а предупреждённый не слушался, то к вечеру ослушника обязательно настигало какое-нибудь несчастье, или поражал легкий недуг, или просто не получалось то, что он так упорно делал.
Естественно, слава о провидце разнеслась по округе с невероятной быстротой. И не прошло и года, как потянулись к общине первые, жиденькие ручейки уверовавших. А дальше – больше: чем шире разносилась слава, тем многолюднее становилась дорога, что вела к домику отца Тело. И ещё через год в этой пешей реке замелькали, как лодки, всадники, которые со временем обрели паруса-гербы, а затем потянулись корабли-кареты…
Провидец не отказывал никому, и, что особенно к нему располагало, большой таинственности на себя не напускал. На все расспросы о своем даре неизменно улыбался и беспечно говорил, намекая на свою слепоту: «Просто меня ничто не отвлекает». Но, когда спрашивали, КАК именно он этот дар осознал, затихал надолго, будто к чему-то прислушивался или вспоминал, а потом устало закрывал глаза: «Научился»…