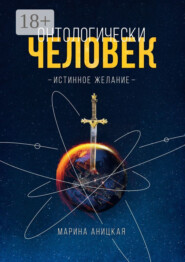По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Онтологически человек
Автор
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Причина, конечно, лежала на поверхности.
На самом деле ей хотелось быть человеком и только человеком.
Все остальное утратило вкус, и смысл, и цель.
Это-то и пугало Нимуэ – все, что было дорого, приносило радость и удовольствие, наполняло мир дышащим, текучим, легким и стремительным чувством потока, единством множества форм, перетекающих из одной в другую – все померкло в сравнении с итогом творения.
Ничего страшного, сказала Эйрмид. Ты же видишь, большинство из нас используют человеческий облик по умолчанию. Он очень удобен, и из всех доступных вариантов дает самую большую маневренность в пространстве выбора. Принятие антропоморфной формы – это одно из тех решений, которые по-прежнему продолжают себя оправдывать со времен Разделения.
Но имитация тяготила Нимуэ. Ей не нужна была форма, ей нужна была суть. Способность вместить в себя невмещаемое.
А это было невозможно.
Было несправедливо утратить все в один миг. Не по своей вине; ни по чьей вине вообще. Но, как сказал Вран – тварный мир вообще не имеет никакого отношения к справедливости.
Время шло. Нимуэ бродила тенью по переходам и галереям, методично пробуя одно занятие за другим, пытаясь методом перебора найти хоть что-то. Хоть что-то. Но даже рассвет на вершине Грозовой башни, рассвет, медленно поднимающийся из-за гор, тоже стал выцветшим и тревожным. Больше похожим на медленный взрыв за горизонтом.
Нимуэ полюбила сумерки. Сумерки скрадывали утраченное.
То ли позаботился Вран, то ли так просто совпало – дни были пасмурные, неяркие, полные мороси и туманов. Внешнее совпадало с внутренним. Это приносило некоторое облегчение.
Она бродила по саду, дав себе задание обойти все пятнадцать камней – все вместе можно было увидеть только сверху, с птичьего полета или с башни, но быть птицей у нее сейчас не получалось, а из окон ничего не было видно из-за тумана, когда по аллее послышались шаги.
– …конечно, не останется, – говорил неуловимо знакомый голос. – Я не остался бы. Ты не остался бы. Смешно было бы надеяться, что выйдет по-другому.
– Мне, наверное, следовало бы быть благодарным. Что все обошлось, – это был отец. Нимуэ отступила в тень. – А у меня нет ничего, кроме гнева. За то, что мы поставлены в такие условия. И ладно мы…
– Гнев – это хорошо, – ответил неуловимо знакомый голос. – На гневе можно что-то делать. А я открываю глаза, смотрю в стену… И не напьешься даже. За упокой надежд, – раздался невеселый смешок.
Отец кашлянул.
– Мы, по крайней мере, попытались.
– Да. Попытка была хорошая. Спасибо, Вран.
Зарница высветила говорящих. Нимуэ чуть слышно ахнула, узнав Эльфина.
Эльфин мгновенно обернулся на звук. Сверкнули, сжимаясь в полоску, зрачки – и распустились обратно.
Эльфин грустно улыбнулся Нимуэ уголками губ, приложил руку к груди, очень медленно поклонился, набрал код на портале – и исчез.
Вран развернулся к дочери. Верхняя пуговица на воротнике у него была расстегнута и рукава закатаны – один на две третьих, а второй до локтя.
– Есть вопросы по подслушанному? – тяжело спросил он.
– О ком вы говорили? – спросила Нимуэ.
Взгляд отца сделался еще тяжелее.
– Например, о тебе. Лучшим вариантом для тебя является «холодный сон». Ненадолго. Лет на двести.
Невысказанное повисло в воздухе – люди не живут столько. Она закроет глаза и откроет их, и за это время Мирддин Эмрис исчезнет с лица земли. Следовательно, исчезнет и искушение. Можно будет начать все заново…
– Нет, – сказала Нимуэ.
Нельзя брать чужое; но память, память об Аннуине была ее собственная.
Ее целью было не бежать от Аннуина. Ее целью было туда вернуться.
Вран схватил ее за плечо. Нимуэ не успела понять, как они очутились в отцовском кабинете.
Вокруг был беспорядок. Над ровным языком пламени, выходившем из стола, плавала в воздухе забытая чаша. Жидкость была красного цвета. Или нет.
Вран плеснул в колбу воды и поднес к языкам пламени. Вода забурлила. Вран взял с полноса прозрачный кристалл и бросил в нее. Кристалл булькнул, погружаясь в жидкость, закружился в водоворотце – и растворился без остатка. Вран поднял колбу на вытянутой руке и вылил жидкость в широкую чашу. Пошел пар.
– Вот что случится с тобой в Аннуине без Предстоящего.
Нимуэ прикрыла веки.
Аннуин.
Аннуин, Аннуин, Аннуин, великая гармония. Громокипящая симфония. Вода и соль.
– Непадшие могут ходить в Аннуине без него, – сказала она.
– У Непадших нет свободы воли, – резко сказал Вран. – За них все решает Единый. Они вольны в своем выборе не больше, чем вода вольна решить, закипать ей или нет, когда я поднесу к огню колбу. Ты этого хочешь? – яростно спросил он. – Ты, моя дочь – и хочешь отдать кому-то свободу решений?!
Голос у него был низкий, как дальний раскат грома. В детстве она считала секунды от молнии до звука, чтобы определить расстояние до центра грозы. Раз. Два. Три. Четыре…
От широкой и плоской чаши шел пар. Где-то там, в воде, существовал растворившийся кристалл соли. Если выпарить воду над огнем, соль останется – мелкие, мелкие кристаллы, похожие на пыль.
– Ты прав, отец, – сказала Нимуэ. – Я – твоя дочь. Я никому не отдам свободу решений. Даже тебе.
Она повернулась и вышла, не чуя под собой ног.
Комната плыла и раскачивалась на невидимых волнах. Уши заложило, как бывает при перепаде высоты.
Лестница уходила вниз спиралью. Нимуэ спустилась, сосчитав ступени – триста, и тридцать, и три.
Молнии вокруг башни били вниз почти вертикально, и каждый удар высвечивал оранжевые узоры печатей в высоком небе.
Мать стояла у арки портала, держа на отлете маленькую белую чашу, молнии вокруг стягивались в нее и гасли, не достигая земли. Вокруг нее неподвижной колонной, упирающейся в тучи, стояло спокойствие.
Мать обняла ее свободной рукой и поцеловала в лоб. Нимуэ почувствовала, что дрожит.
– Чего ты хочешь? – спросила мать.
– В Аннуин, – ответила Нимуэ. – Я хочу в Аннуин.