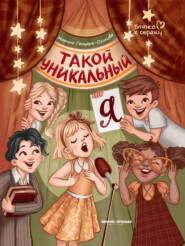По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из бизнес-шпилек в кеды фриланса. Путь к себе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Почитай, ну почитай, – ходила я по пятам с толстой книжкой наперевес за воспитателем младшей группы.
– Наташа, ну это же невыносимо! – взмолилась она, увидев маму. – Дома Мариша тоже бесконечно просит читать?
– Да, – засмеялась мама, – читаем постоянно, а по дороге в садик еще и пересказываем любимые сказки.
Начиная с года, каждое утро мама показывала мне буквы из разрезной азбуки, а потом просила найти их в книжках. Со временем, сейчас уж и не вспомнить как, я поняла секрет сложения букв в слоги, а затем и в слова.
И вот однажды.
– СО-ВЕТ-СКОЕ ЗА-У-РА-ЛЬЕ! – старательно выговорила я по слогам название газеты.
– Батюшки-святушки, – всплеснула руками бабушка, – и впрямь читает! Дед, ну ты видел? Точнее, слышал? В три года читает. Это ж надо!
– Ну-ка, Мариш, давай вот с этой строчки, – засомневался дед. – Поди, название просто запомнила.
Он и сам неважно читал: не по слогам, конечно, но медленно. В аттестате были всего четыре класса советско-румынской школы. Родился дед в Карпатах. Небольшой хутор уютно расположился в Черновицкой области, всего в 20 километрах от границы с Румынией. Вечером, когда в избе гасили лучину, на настилах укладывались аж 15 ребятишек. Сапоги были одни на всех. Где уж тут грамоте обучить – накормить бы, и то ладно. По недосмотру в младенчестве он сильно обгорел. Мать уложила запеленатого на верхний уступ печи, а он возьми да и скатись, как колобок, прямо на растопленную плиту. Через всю жизнь пронес дедушка тёплые воспоминания о маме и отпечатки жаркого поцелуя печи на щеках.
Первый класс окончил в советской школе. Затем власть сменилась, и вместо второго ребятня снова пошла в первый класс, но уже румынской гимназии. Через год опять пришлось пересесть за советские парты. Точнее, школа была та же самая, только флаг над ней менялся. То были тридцатые – сороковые годы 20-го столетия. Надо ли говорить, что в этой политико-географической чехарде дед уразумел немного грамоты.
А тут, ты посмотри, такая пигалица в свои неполные четыре буковки складывает. Да как ловко!
– Дан-ное про-ис-шес-твие про-и-зо-шло в ми-нув-ший вто-рник на Кур-ган-с-ком ма-ши-но-с-трои-те-льном за-во-де, – я отложила газету и шумно вздохнула. – Всё, дедушка, устала. Уж больно длинные и скучные тут слова. Давай лучше я тебе «Айболита» или «Тараканище» почитаю.
?И торопливо свернув свежий выпуск «Зауралья», положила его на буфет. В старинном колченогом буфете всегда водилось что-нибудь вкусненькое: в ящичках сладко пахло медом, вареньем, «дюшесом» и рассохшимся деревом.
– А чай-то пить когда будем? – деловито вопросила Мариша все еще изумленную публику в лице бабушки с дедушкой.
– Да ты ж наша умничка. Сейчас-сейчас, – бабушка подхватила края передника своими скрюченными от тяжелой работы пальцами и выскользнула в летнюю кухню. – Коля, а ты чего сидишь, к табурету что ль прилип от удивления? Давай стол раскладывай. Ребёнок голодный.
?Стальной тон весьма хрупкой на вид бабушки выдернул дедушку из размышлений. Весело подмигнув мне, он кинулся хлопотать по хозяйству, чуть не наступив на Ваську, что путался под ногами. Рыжий кот, который впоследствии оказался кошкой Василисой, терся о мои коленки и мурлыкал песни. Усевшись на пол, я охотно запустила руки в густую теплую шерстку. Васька прибавил громкость мурчания на всю мощь и блаженно растянулся.
?В печи уютно потрескивали дрова, обсуждая невиданное доселе столь раннее чтение. Расписные чашечки тонкого фаянса в нетерпении позвякивали о блюдца – им тоже хотелось посмаковать свежие новости. Вдруг начищенный до блеска пузатый самовар зашипел и выпустил на всех пар – напомнил, кто тут главный.
?Но как только в комнату вошла истинная хозяйка дома, все сразу стихли. На бабушкином подносе благоухали наполненная доверху розетка с вареньем и свежий, ещё горячий хлеб.
– Зем-ля-нич-ное-е-е-е, – протянула я, зажмурившись в предвкушении.
– Земляничное, – улыбнулась бабушка. – Брось кота, намой руки и садись к столу.
Добрая улыбка, но неизменно строгий тон – в детстве я немного побаивалась ее за это. Уже позже узнала, что пришлось пережить бабушке в годы войны. Родную деревню в Смоленщине сожгли дотла. Всех, кто выжил, угнали в плен. Родителей – в один, а ее с маленьким братом – в другой. Маша с мальчонкой и ещё несколькими женщинами сумели бежать.
Тёмными ночами голодная и задрогшая пробиралась сквозь лесные чащи и болота к своим. Выжила, добралась. Но впереди ждали лишь долгие годы тяжкого труда. Сначала в тылу, а потом на благо светлого социалистического будущего. Страшно представить – 16-летняя хрупкая девчушка таскала шпалы. Строила метро в Москве, батрачила в Минске, пока не распределили в Донбасс. Там и познакомились с молодым бригадиром Колей. Дед часто вспоминал, как увидел ее впервые, со старым чемоданом в руках. В нем сменное платье, платок и некое подобие пиджака. Одного взгляда была достаточно – на стройке Маше не место, здоровьем не сильна. Но зато внутри – такой стержень, такой характер, что кирпич под взглядом крошился. Как смеялся потом дед: это был выбор без выбора. Причём непонятно еще, кто кого прибрал.
Вся их долгая совместная жизнь – одна сплошная стройка. Менялась география, росли масштабы объектов. Не подводило, к счастью, богатырское здоровье и юморной задор дедушки. Как никуда не девались и глубокие шрамы войны, проступающие в ранней седине и морщинах бабушки. Среди тысяч других стахановцев изо дня в день поднимали они страну в трудовом подвиге. Между делом подняли и двух сыновей. Дед стал заслуженным строителем СССР. А бабушка – заслуженным хранителем воспоминаний, пенсии и житейской мудрости.
Как бы я хотела сейчас стиснуть в объятиях родных моих стариков и полакомиться хоть одной ложечкой того самого земляничного варенья. Даже блохастого Ваську потрепала бы с великой радостью. Все газеты готова перечитать им за возможность вот так посидеть вместе за накрытым столом. Хоть пять минуточек.
Глава 4. Перевязки без права переписки
Новорожденная сестренка заходилась плачем, а я закашливалаcь до удушья. Разрывающаяся между нами мама мысленно проклинала Советскую армию.
«Ну как можно было призвать на сборы мужчину, у которого только что родился ребенок? Ладно бы еще сборы были настоящие! А то ведь срочная уборка урожая».
Мама металась из угла в угол, отмеряя двумя с половиной шагами крохотную комнатку в квартире с общей кухне. Как ни укачивала – сестрёнка всё не унималась. Наконец решительным жестом она добавила бальзам «Звёздочка» в картофельный отвар, поставила кастрюлю на диван – стола в нашей комнате «три на три» попросту не было – и, накрыв меня над кастрюлей одеялом, велела глубоко дышать открытым ртом.
А потом… и не вспомню точно, как все произошло. Вроде всего на минуту мама вышла на кухню. А я то ли захотела скорее выбраться из плена одеяла, то ли просто сменить позу.
Весь многоквартирный дом оглушили душераздирающие крики. Сначала мои, потом мамины.
Одеяло страшно было даже развернуть, а я взмолилась, прижимая руки к обожженным ногам.
– Мамочка, не ругай меня, я нечаянно.
– Мариночка, прости меня, прости, это я во всём виновата.
Когда примчалась скорая, вердикт врача был суров – обширный ожог тяжелой степени.
– Еще немного, и кожа покроется волдырями и сойдет. Срочно едем в больницу!
Делать нечего, оставили сестренку с соседкой по квартире. В травмпункте маму немного обрадовали: спасли хлопчатобумажные колготки, и кипяток не обварил ноги полностью. Меня, забинтованную, как египетскую мумию, передали маме вместе с подробными указаниями по обработке и перевязке. Строго-настрого запретив больной вставать и ходить, в противном случае девчушку ожидали страшные шрамы в качестве приданого.
Домой мы вернулись поздно, на такси. Хоть наши люди в булочную на такси и не ездят, но мама была так подавлена и обессилена, да и я не особо транспортабельна. Не знаю, что в тот момент выглядело более жутко: мои обожженные до мяса ноги или мамино лицо, посеревшее от чувства вины, сострадания и усталости.
Утром сердобольный сосед с 5-го этажа на своем москвичонке отвез нас к бабушке. Весь следующий месяц прошел в бесконечных перевязках: километры бинтов, килограммы мази и гноя. Все это щедро залито литрами слез: моих, маминых, бабушкиных. Но тяжелее всего давалось то, что запрещали вставать. Совсем.
Мой дикий ор во время обработок, казалось, слышала даже глухонемая бабушка. Я докричалась до гнойного отита. Текло из обоих ушей, что грозило потерей слуха. Глухонемая печать так и нависала над детьми в этом роду, как ухмылка судьбы.
Папины родители сильно переживали и настойчиво приглашали приехать. Вскоре измотанная мама сдалась, и мы перекочевали от одной бабушки к другой. За месяц ноги сплошь покрылись уродливыми коричневыми корочками, но под ними уже нарастала новая кожа. Все это страшно зудело и докучало.
Когда в один из дней мама уехала с сестрёнкой в поликлинику, больную оставили на бабушку. И я принялась изводить ее просьбами разрешить мне хотя бы встать. Бабуля Маша перенесла ужасы и лишения войны, но вынести страдания четырехлетней внучки было выше ее сил. В качестве утешения она наготовила мое любимое лакомство – крошки со сметаной и сахаром. Но своенравная Мариша даже не притронулась и раздосадовано отвернула голову к стенке. Там висел ковер, узоры которого от скуки она частенько разглядывала. Бабушке стало совсем невмоготу смотреть на мучения ребенка, и скрепя сердце она позволила ненадолго встать.
Помню, маму я встречала на трясущихся ногах с радостью в глазах победоносным криком:
– Мамочка, смотри, я снова могу ходить.
– Что же вы наделали, я ведь просила, – всплеснула мама руками, и бусины слез покатились из ее уставших карих глаз.
Меня тут же уложили в постель, но было поздно. Новая кожа – слишком тонка, вся растрескалась. Корочки отошли с кровавыми потеками и лечение пошло по новой.
– Мамочка, давай поедем домой, – всхлипывала я на ее груди спустя пару дней. – Обещаю, что не буду вставать, кричать. И ещё…
– Ну тихо, тихо, не плачь. Что ещё, Мариш?
– На мой день рождения я больше всего хочу обнять папу, – я разрыдалась, и мама тоже заплакала. Молча. Она научилась этому в полуглухонемом детстве.
Три месяца без отца для нас оказались слишком долгими. От разлуки мне было гораздо больнее, чем от тяжелых ожогов.
Три месяца без мужа: ни звонков, ни писем. Одна с двумя детьми: грудным и обожженным – для мамы прошла будто вечность.