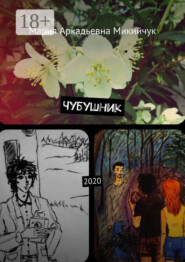По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы полутьмы. Marianna и другие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он выписывал на льду заклинание своими ногами, аккуратно и очень точно, максимально сосредоточившись. Никаких лишних движений, привлекающих к нему внимание, не взмывать в воздух, не показывать, что он умеет. Просто мягкий поворот, просто странные немного движения, словно он встал на коньки впервые (если бы!).
Маленькая девочка в лавандовом пальто прижалась к ограде, наблюдая за ним. Для неё каждое его движение вспыхивало розовым огнём, оставалось прочным следом – она видела творящееся заклинание в режиме реального времени и откуда-то знала, чем оно должно закончиться.
Поворот, мягкое скольжение – так близко к забору, видно, что под льдом зависли в этом краю пузырьки воздуха, один тёмный свёрнутый лист на самом дне. Начал падать снег, медленно накрывая каток пушистой ладонью.
Завиток. Прямая линия. Прыжок.
Он на секунду завис в воздухе и тяжело опустился на лёд на одно колено – скорее всего, со стороны выглядело так, словно он неловко упал.
Отдышался и поднял голову – небо чуть изменило цвет, самую малость. Из рыже-фиолетового в более синие и спокойные тона. Значит, сработало, значит, он не ошибся.
Паша с трудом встал и пошёл к выходу. За ним на льду сильно столкнулись пролезающие тайком мальчишки, на лёд пролилась кровь, почему-то шипя и поднимаясь дымом в странном и как будто продуманном узоре, но этого не заметил никто, кроме девочки в лавандовом пальто.
– Это он, – сказала девочка, оборачиваясь к маме. – Танцующий по льду.
Паша вообще никогда в жизни не планировал выходить на лёд. В глубоком детстве его дед на его глазах поскользнулся и упал с лестницы их маленькой дачи – прогрохотал скрюченной массой по половичкам, заботливо прибитым к каждой деревянной ступени, а потом не смог подняться, да так и не поднялся – умер на больничной койке от пневмонии.
На каток его затащила его девушка, если её можно было так называть. Сейчас, в свои двадцать один, Паша понимал, что она просто играла с ним, потому что пробовала свои силы. Не было ни поцелуев, ни объятий – в основном она просто вырывалась, требовала сопровождать её и сообщала ему, что он любит её недостаточно. Справедливости ради, Паша и себя любил недостаточно, а её, если так подумать, за себя и за неё саму, так что – чрезмерно.
– Ты не понимаешь, – сообщила она с жестокостью в глазах, которая характерна для людей, вынужденных ставить на место возлюбленных тех, к кому ощущают только пустоту в сердце, – тебе нужно уже повзрослеть и побороть свои страхи. Да, твой дед умер, но ты-то точно там не умрёшь, это же каток! Там дети маленькие катаются и не боятся, тебе не стыдно бояться?
«Стыдно бояться», повторял про себя иногда Паша, вспоминая её слова. Стыдно бояться. Стыдно болеть. Стыдно умирать.
Каток на стадионе «Труд» всё было странно глобальным, а гардероб – длинный, как в театре. На каток нужно было шагать на коньках по деревянному неровному помосту, криво прибитых и местами уже провалившихся досок. Дорога стыда, по которой ты вышагиваешь, как цапля, и думаешь – эти замороженные доски ощерились неровными краями, словно сами не рады здесь находиться.
А потом – сразу лёд. Поле льда, озеро льда, даже не так – мир льда, подсвеченный огромными фонарями, наполненный огромным количеством людей, и всё равно не заполненный даже наполовину. И на него нужно было сползать как-то с деревянных кривых досок.
– Ну давай быстрее, – недовольно сказала Рита. Она кружилась на льду, как вуалехвост, помахивая всем телом, как плавниками, и отлично вписывалась в броуновское движение толпы. Она отлично знала, как стоять на коньках, как делать ласточку – могла даже катиться, согнув одну ногу и выставив вперёд другую, словно превратив себя в огромный автомат с опасным лезвием на конце вместо пуль.
Мимо него провели мальчика с ярко-бледным лицом; тот прижимал руку у себе и молчал так оглушительно, что Паша услышал.
Бояться стыдно.
Шагнул вперёд, коснулся лезвием льда…
И лёд расцвёл под его ногами, как огромная чёрная скатерть, как чистый лист цвета ночного неба, а его лезвия стали раскалённо-белоснежными.
– Ну чего ты встал, – крикнула Рита. – Катись уже, не тормози!
Чтобы всё было хорошо, подумал Паша спутано тогда. Выписать такой узор, чтобы у всех людей вокруг, до самой остановки, всё было хорошо.
Узор лёг перед ним, как гигантская калька, и Паша просто заполнял её силами, льющимися, казалось, из него самого, из висков стекающие по груди, над пупком расходящиеся на два потока – и вливающиеся в ноги, а там – прямиком в лезвия. Это было так прекрасно! Это ощущение – такое влекущее, невозможно было оторваться от узора, невозможно было прекратить этот проклятый танец, оторвать коньки от льда, а взгляд – от гигантской раскраски. Звук разрезающих лёд лезвий – жёсткий и резкий звук, как звук разрезаемой бумаги, только более металлический и более природный.
Фонари высвечивали пролетающих мимо людей, ветер свистел в ушах, холод казался несущественным, пока горело огнём тело, собранное, летящее, лавирующее в человеческих потоках, легко уходящее от столкновений. Мимо пролетали люди – мелькали яркие куртки, смеющиеся лица, взлетающие на фоне фонарей шарфы, пушистые шапки. Все они летали над озером льда, как стрекозы, а он, Паша, единственный выписывал чётко видный узор.
Который завершился у дальнего фонаря с развевающимися полувыцветшими флагами России. И Паша остановился, дыша, ощущая ветер, прислонившись к забору, за которым была только чёрная пустота. Он был опустошён и чувствовал себя очень слабым и радостным, как будто совершил что-то очень хорошее, но отдал за это много сил. Выписанная канва вспыхнула на секунды – и разошлась светлым маревом по окружающему миру. А лёд снова стал обычным – прорезанным штрихами траекторий, слишком блестящем под фонарями, светлым и многогранным.
Рита не разговаривала с ним неделю: он бросил её на катке, а это значит – не любил.
Первые два дня он извинялся, а потом та же странная сила, что на катке, охватила его и повлекла куда-то к себе, к своим интересам, к своим забытым играм и книгам, которые делали его сильным, мощным – собой. Когда через неделю Рита решила простить его и, даже, может, поцеловать в щёку, он посмотрел на неё удивлённо и ответил: «Спасибо, не нужно». И ушёл оттуда: торопился – на каток.
Сделать жизнь лучше. Помочь людям. Улучшить настроение в этом районе. Снизить уровень преступности. Помочь отстроить дома. Дать силы тем, у кого не было сил.
Работы было так много, а вот времени – так мало, потому что зима рано или поздно перешла бы в весну, а на закрытых катках – он попробовал – его силы не работали.
Он стал смотреть фигурное катание и однажды увидел канву. У хрупкого японского мальчика-фигуриста, похожего на лепестки лотоса или колосок, изрезанного шрамами от операций и переломанного, но не сходящего с катка даже в очень плохом состоянии. Это было катание на избавление всего мира от какой-то болезни, и Паша даже вырезал себе фигурку Ханю из журнала младшей сестры и повесил над столом, как напоминание: можно и так, можно и на таком уровне.
Паша понимал, почему этот хрупкий фигурист не сходит с катка. Паша тоже не мог, да и как, если он мог сделать чью-то жизнь лучше, влить свои силы в радость своей страны, помочь ей справиться с тяжёлыми временами, как он мог не делать этого?
Когда канва заклинания ложилась под ноги, всё становилось осмысленным.
Он уложил коньки в пакет, а пакет – в рюкзак, протолкнулся через людей и вышел в ночь Автозавода.
– Извините, пожалуйста.
Паша обернулся. Перед ним стояли очень хорошо одетые мать и дочь; обе в аккуратных и очень дорогих пальто, девочка – в каком-то светло-фиолетовом, мать – в ярко-алом, обе – с завитыми локонами блестящих каштановых волос, бледные, только с зимним румянцем, похожие на фарфоровые куклы с карими глазами. Ещё и варежки на руках были у обеих авторскими, видимо, со снегирями, и сапожки – очень дорогими и качественными, из мягко поблескивающей кожи.
– Да?
– Мы собираем людей, творящих заклинания на льду, – сказала женщина.
Паша замер.
– М, – ответил он. Подумал и понял, что нет смысла скрываться и врать – он любил экономить время. – Зачем?
– Потому что очень скоро случится очень плохое событие, – сказала женщина. – Очень, очень плохое. И мы стараемся не предотвратить его, потому что это невозможно, но помочь миру рано или поздно остановить его – с вашей помощью. Это будет отложенное заклинание. Оно сработает не сразу. Но, мы надеемся, сработает – всё равно ничего больше нельзя сделать.
– Что, есть что-то хуже, чем двадцатый и двадцать первый годы? – усмехнулся Паша.
– Есть, – ответила девочка таким тоном, что Паша сразу, сразу ей поверил.
Они переобувались на краю огромного замёрзшего озера глубокой ночью, всего около сотни с чем-то человек. Было очень темно, но им и не требовалось освещение – чёрная чистейшая поверхность горела множеством линий, и из них Паша хорошо видел свою – светло-голубую, нежную. Она манила и влекла к себе. И, судя по яркости, она заберёт у него невероятное количество энергии, но он готов был отдавать.
Затянул шнурки и встал, вспомнил небрежную улыбку японского фигуриста. Вспомнил его бледность и страх, что не сможет снова выйти на лёд.
Бояться – страшно. Болеть – страшно. Умирать – страшно. Потому что при этом ты не сможешь вложить больше, ты не сможешь помочь больше, ты не сможешь сделать мир лучше.
Им не приходилось сговариваться – лёд манил всех одинаково. Один за одним они вставали на свои линии и начинали двигаться. Не стремительно, как на льду маленьких и больших катков, а как будто в глубоком прозрачном болотном омуте, так много сил отбирало скольжение по линиям. Паша увидел это на секунду: маленькая девочка кричит в подвале за секунду до смерти, запах крови, запах помоев, темнота, ледяные руки матери, шёпот, взрывы, взрывы, взрывы. И скользил дальше быстрее, яростнее: если это они собираются остановить рано или поздно, он готов отдать свою жизнь, выписать её всю до остатка узором на льду Байкала, отдать её миру, остановить всё это и вывести ребёнка и её мать наружу, на свет. Он – готов.
Последняя завитушка – и он глухо упал на лёд. Сил не оставалось, сердце билось медленно-медленно. Рядом тоже кто-то свалился – девушка его возраста в вязанной шапке в виде лягушачьей морды – её было видно очень плохо, не было сил шевельнуться, но девушка улыбалась с закрытыми глазами: справилась.
Они постепенно выпали по краю льда, как выброшенные на берег рыбы, кто-то потерял сознание, кто-то просто лежал, не в силах двинуться, кто-то приподнялся на локте и смотрел на то, как огромная многоцветная канва вспыхнула и взорвалась, рассеиваясь на весь мир, накрывая его огромным и дремлющим до поры ледяным куполом, слегка снижающим температуру всего вокруг, но – дающим надежду на то, что рано или поздно можно будет что-то изменить.
Многоликий дед в разваливающемся доме
– В принципе, – сказал многоликий дед, чинящий постоянно разваливающийся дом. – у нас очень небольшой временной промежуток для театрального представления собственной жизни в постоянно меняющихся декорациях, поэтому лучше хотя бы выбрать себе труппу и зрителей, а не выбирать под них новые маски. Так ведь разоришься на клее – наклеивать новые на собственное лицо.
– Что же ты не перестанешь чинить свой дом и не выберешь дом поновее? – усмехнулся я. Океан шумел совсем рядом, и местные жители говорили мне, как один, что дед заговорил океан, чтобы тот не слизнул его разваливающийся дом в себя.