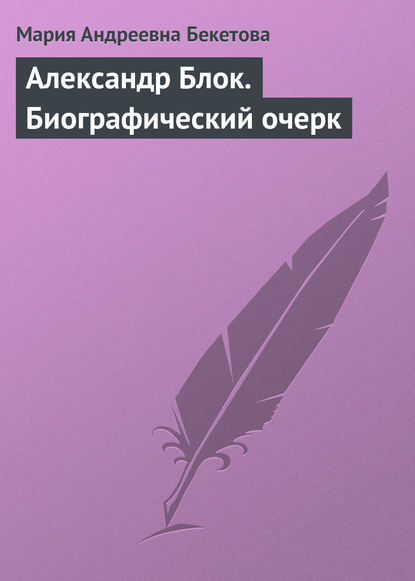По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Александр Блок. Биографический очерк
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Несмотря на то, что мы живем в Бретани, и видим жизнь, хотя и шумную, но местную, все-таки это – Европа, и мировая жизнь чувствуется здесь гораздо сильнее и острее, чем в России (отчасти, благодаря талантливости, меткости и обилию газет при свободе печати), отчасти благодаря тому, что в каждом углу Европы человек висит над самым краем бездны («и рвет укроп – ужасное занятье!» – как говорит Эдгар, водя слепого Глостера по полю)[154 - Сцена из «Короля Лира» Шекспира.] и лихорадочно изо всех сил живет «в поте лица». «Жизнь – страшное чудовище, и счастлив человек, который может, наконец, спокойно протянуться в могиле», так я слышу голос Европы, и никакая работа и никакое веселье не может заглушить его. Здесь ясна вся чудовищная бессмыслица, до которой дошла цивилизация, ее подчеркивают напряженные лица и богатых, и бедных, шныряние автомобилей, лишенное всякого внутреннего смысла, и пресса – продажная, талантливая, свободная и голосистая.
Сегодня английские стачки кончаются (по-видимому), но вчера бастовало до 250000 рабочих. Это – «всемирный рекорд», говорят парижские газеты и выражают удивление, что стачка достигла таких размеров в самой демократической стране! При этом, одна Франция теряла до миллиона франков в день. Англия – нечего и говорить, потому что 60 % английской промышленности сосредоточено в наиболее пострадавшем Ливерпуле. На сотнях больших пароходов сгнили фрукты, рыба и прочее. Не было хлеба, не было света. Все это сопровождалось бесконечными анекдотами, начиная с того, что лорды (у которых только что отнято их знаменитое veto) уверяли в парламенте, что все благополучно, – и кончая обществом эсперантистов, которые уныло сидели на чемоданах на лондонском вокзале и тщетно ждали поезда, мечтая о соединении всех народов при помощи эсперанто. Но они мечтали об этом в «самой демократической стране», где рабочие доведены до исступления 12-ти часовым рабочим днем (в доках) и низкой платой, и где все силы идут на держание в кулаке колоний и на постройку «супер-дреднаутов». Именно, все силы – в последние годы, когда Европе некогда тратить силы ни на что другое, до того заселены все углы и до того прошли времена романтизма.
– В Германии и Франции – нисколько не лучше. Вильгельм ищет войны и, по-видимому, будет воевать… французы поминают лихом Наполеона III и собираются «mourir pour la patrie»[155 - Умереть за родину (фр.).]. Все это вместе напоминает оглушительную и усталую ярмарку, на которую я сейчас смотрю. Вся Европа вертится и шумит, и втайне для этого нет никаких причин более, потому, что все прошло…
Славянское никогда не входило в их цивилизацию и, что всего важнее, пролетало каким-то чуждым астральным телом сквозь всю католическую культуру. Это мне особенно интересно. Я надеюсь наблюсти это тайное вторжение славянского пафоса (его отрасли, самой существенной для меня теперь) в одном уголке Парижа: на задворках Notre Dame, за моргом, есть островок, где жили Бодлер и Теофиль Готье; теперь там в старом доме – польская библиотека и при ней – маленький музей Мицкевича… Иначе говоря, на этом островке, мало обитаемом и тихом, хотя и в центре Парижа, как бы поставлен знак»…
В следующем письме из Кэмпера от 24 августа описывается знаменитое похищение Джиоконды в Париже:
«Итак, мне не суждено увидать Джиоконду. Не знаю, описаны ли в России все подробности ее исчезновения, – здесь газеты полны этим.
22-го утром я лежал в постели и размышлял (или мне полуснилось – не помню) о том, как американский миллиардер похищает Венеру Милосскую. Через час Люба приносит газету с известием о Джиоконде.
Она была на месте в понедельник в 7 часов утра. В этот день Лувр закрыт для публики, пускают только художников и прочих известных лиц. Народу, однако, было много. Требовалась огромная смелость и профессиональная ловкость, чтобы улучить время снять картину… пройти через две залы, спуститься по маленькой лестнице и снять раму и стекло, нисколько их не испортив (это было сделано в ватерклозете). Потом надо было нести картину по улице – она довольно велика и на деревянной доске. – В 10-м часу ее хватились, и в 12 уже Лувр был закрыт (и до сих пор не открыт). – Вся парижская полиция на ногах…
Удивительна все-таки история этой картины. Джиоконда получала письма, хранители Лувра и сторожа наблюдали перед ней всевозможные нервные волнения»…
Наконец, 27 августа приехали в Париж. Остановились в одном из отелей Латинского квартала. Но жара не прекращалась, и под влиянием жары и засухи Париж производил особенно тягостное впечатление: «Париж – Сахара – желтые ящики, среди которых, как мертвые оазисы, черно-серые громады мертвых церквей и дворцов. Мертвая Notre Dame, мертвый Лувр. В Лувре – глубокое запустение: туристы, как полотеры, в заброшенном громадном доме. Потертые диваны, грязные полы и тусклые темные стены, на которых сереют – внизу – Дианы, Аполлоны, Цезари, Александры и Милосская Венера с язвительным выражением лица (оттого, что у нее закопчена правая ноздря), – а наверху – Рафаэли, Мантеньи, Рембрандты – и четыре гвоздя, на которых неделю назад висела Джиоконда. Печальный, заброшенный Лувр – место для того, чтобы приходить плакать и размышлять о том, что бюджет морского и военного министерства растет каждый год, а бюджет Лувра остается прежним уже 60 лет. Первая причина (единственная) кражи Джиоконды – дреднауты. – Впрочем, парижанам уже и это весело: на улицах кричат с утра до ночи: «As tu vu la Joconde? Elle est retrouvel – Dix centimes!»[156 - «Ты видел Джоконду? Она нашлась! – Десять сантимов!» (фр.).] Или: «La Joconde! Son sourire et son enveloppe – dix centimes ensemble!»[157 - «Джоконда! Ее улыбка вместе с конвертом – все за десять сантимов!» (фр.)]
В следующем письме (4 сент.) из Парижа Блок уже прямо пишет: «Я не полюбил Парижа, а многое в нем даже возненавидел. Я никогда не был во Франции, ничего в ней не потерял, она мне глубоко чужда…»
Дальше описываются улицы, площади, сады, нравы Парижа – все в самых тоскливых тонах: могила Наполеона, да вид с Монмартра – единственно это оставило в нем хорошее впечатление. И в конце письма он прибавляет:
«Вследствие всего этого, я уезжаю сегодня или завтра в Брюссель, а Люба через неделю уедет прямо в Петербург, искать квартиру».
Затем, уже от 5-го сентября следует carte postale[158 - Открытка (фр.).], а за нею письмо из Антверпена, который Блоку очень понравился:
«Огромная, как Нева, Шельда, тучи кораблей, доки, подъемные краны, лесистые дали, запах моря, масса церквей, старые дома, фонтаны, башни. Музей так хорош, что даже у Рубенса не все противно; жарко не так, как в Париже. Вообще – уже благоухает влажная Фландрия… Завтра поеду в Брюгге или Гент».
Брюгге не понравился. О нем Блок пишет уже из Роттердама 10 сентября:
«Брюгге, из которого Роденбах и туристы сделали «северную Венецию» (Venise du Nord), довольно отчаянная мурья. Лодочник полтора часа таскал меня по каналам. Действительно – каналы, лебеди, средневековое старье, какие-то тысячелетние подсолнухи и бузины по берегам. Повертывая обратно: «А теперь новый вид, – n'est ce pas?»[159 - Не правда ли? (фр.)] Но ничего особенно нового: другая бузина, другой подсолнух и другая собака облаивает лодку с берега…»
В следующем письме из Амстердама Ал. Ал. пишет о жаре, о том, что кусают москиты, путешествовать надоело, и теперь он поедет через Берлин прямо в Петербург.
Из Берлина – по обыкновению с чувством удовлетворения: «Едва переехали и голландскую границу, стало приятно, очень я люблю немцев».
Вслед за этим письмом мать получила увесистый конверт с карточками зверей из зоологического сада и с раскрашенным портретом Kaiser'a. На обратной стороне карточек написано (16 сентября):
«Я в Берлине отдыхаю, хотя здесь тоже шумно и людно, и хотя я целые дни проводил в музеях. Все музеи (художественные) я уже осмотрел. Здесь не то, что в Париже, искусство можно видеть и понимать. Большого так много, что сразу приходишь в отчаянье, но потом начинаешь вникать и видеть. Хождение по музеям – целая наука и особого рода подвижничество; в Германии (и, надо отдать справедливость, в Голландии и Бельгии) музеи устроены почти идеально в смысле особого уюта и обстановки.
Вчера узнал о покушении на Столыпина[160 - Премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин был смертельно ранен Д. Богровым в Киеве 1 сентября 1911 г. (умер 5 сентября).]. Зоологический сад помог преодолеть суматоху, возникшую от этого в душе… Хочу завтра пойти к Рейнгардту[161 - Макс Рейнгардт (1873–1943) – знаменитый немецкий театральный режиссер.] – идет Гамлет»…
Наконец, от 18 сентября последнее письмо из-за границы:
«Вчера было очень хорошее впечатление в Гамлете. Смотреть Александра Моисси[162 - Александр (Сандро) Моисси (1880–1935) – немецкий актер.] во второй раз уже значительно хуже, чем в первый (он был Эдипом). Однако он очень талантливый актер. Это – берлинский Качалов, только помоложе, и потому – менее развит. Впрочем, нужно иметь много такта, чтобы возбуждать недоумение в роли Гамлета всего два-три раза. Несколько мест у него было очень хороших, особенно одно: Гамлет спрашивает у Горацио, седая ли голова была у призрака? «Нет, – отвечает Горацио, – серебристо-черная, как при жизни». Тогда Моисси отворачивается и тихо плачет.
Офелия была очень милая, акварельная. Великолепный актер играл короля, такого короля в Гамлете я вижу в первый раз. Он был, как две капли воды, похож на Мартына[163 - Шахматовский работник – латыш.], и это оказалось очень подходящим. Были хороши и Полоний, и Горацио, и Розенкранц, и Гильденштерн, и Фортинбрас (!), и королева, и Лаэрт, при всей неловкости положения этих последних. Я сидел в первом ряду и особенно почувствовал холод со сцены, когда поднялся занавес и Марцелл стал греться у костра в серой темноте зимней ночи на фоне темного неба. Горацио пришел и сказал, что он только «Ein Stuck Horatio»[164 - «Кусочек Горацио» (нем.).], а Гамлет пришел в теплой шубе – все это очень хорошо.
Ужасно много разговаривает Гамлет, вчера это было мне не совсем приятно, хотя это естественный процесс творчества и английского и нашего Шекспира: все благородство молчания и аристократизм его они переселяют в женщин – и Офелия и Софья молчаливы; оттого приходится болтать принцам – Гамлету и Чацкому, как страдательным лицам; но я предпочел бы, чтобы и они были несколько «воздержаннее на язык». Оба ужасно либеральничают и этим угождают публике, которая того не стоит… Рейнгард, будучи немецким Станиславским, придумал очень хороший стрекочущий звук при появлении тени: не то петухи вдали, а впрочем – неизвестно что, как всегда бывает в этих случаях…»
Следующее письмо от 7 сент. прислано в Шахматове уже из Петербурга: «Я очень рад, что вернулся… По Германии я ехал ночью и великолепно спал один в купе 1 класса, дав пруссаку 3 марки. В России зато весь день и часть ночи принимал участие в интересных и страшно тяжелых разговорах, каких за границей никто не ведет. Сразу родина показала свое и свиное и божественное лицо…»
В Шахматове после отъезда Блока за границу мы с сестрой жили не весело. Она все болела, и ее пугало переселение в Полтаву. Но в августе вдруг из Полтавы пришло от Фр. Фел. радостное письмо: он получил бригаду в Петербурге. Это был счастливый момент в нашей жизни. Алекс. Андр. тотчас же написала об этом сыну, и он ответил ей уже из Берлина, что весь день радовался и доволен тем, что это так естественно устроилось.
Квартиру в этом сезоне Блокам переменить не пришлось: не нашли ничего подходящего и остались на Монетной.
Мать и отчим поселились на Офицерской, 40, против Литовского замка. Мать и сын виделись часто, и на Монетную часто ходил денщик с какими-нибудь записками или посылками. Бывало и так, что придет по почте коротенькая записка, всего несколько слов: «Мама, тебе очень грустно. А я думаю о тебе. Саша».
Такие посылки несказанно ободряли мать.
В ноябре месяце все вместе – Блоки, Кублицкие и я – взяли ложу в Мариинский театр и отправились слушать «Хованщину». Всех нас поразила опера Мусоргского. Ал. Ал. был нервен и волновался. Ему нравился Шаляпин. На другой день мать получила от него письмо: «…«Хованщина» еще не гениальна (т. е. не дыхание св. духа), как не гениальна еще вся Россия, в которой только готовится будущее. Но она стоит в самом центре, именно на той узкой полосе, где проносится дыхание духа…»
Эта зима 1911-12 года прошла под глубоким и стойким впечатлением: Ал. Ал. узнал Стриндберга, на которого указал ему Пяст, указал настойчиво, так что и потом Ал. Ал. неоднократно повторял: «Пяст научил меня Стриндбергу»[165 - О своем отношении к Стриндбергу Пяст подробно пишет в книге воспоминаний «Встречи». Блок посвятил Стриндбергу статью «Памяти Августа Стриндберга» (V, 463–469).]. Знакомство с произведениями Стриндберга он считал одним из событий своей жизни. Стихийное начало, глубокий мистицизм, специальная склонность к глубокому изучению естественных наук, общая культурность европейского склада – такое сочетание казалось Блоку до крайности знаменательным, и в этом периоде он рассматривал все события своей жизни с точки зрения Стриндберга.
В феврале 1912 г. приехал в Петербург Б. Н. Бугаев. Блок виделся с ним не раз. Эти свидания, состоявшиеся после долгого перерыва, после многих уже миновавших разногласий, скрепили связь между Блоком и Белым, который тогда связал уже свою судьбу со Штейнером[166 - Рудольф Штейнер (1861–1925) – немецкий теософ, основатель и руководитель «Антропософского общества». Белый был приверженцем учения Штейнера, активным деятелем русского «Антропософского общества», участвовал в строительстве «Иоаннова храма» в Дорнахе (Швейцария).]. Лично Блоку теософия была чужда, но он писал матери: «Теософия в наше время, по-видимому, есть один из реальных путей познания мира; недаром ей предаются самые разнообразные и очень замечательные люди во всей Европе».
В эту зиму поэма «Возмездие» была отложена. Блок стал относиться к ней холоднее, с нерешительностью и долго не возвращался к начатому труду.
На Пасхе завязалось новое знакомство, имевшее важные последствия; Михаил Иванович Терещенко[167 - М. И. Терещенко (1886–1958) был чиновником при директоре императорских театров, владельцем издательства «Сирин». После Февраля – министр Временного правительства. О его отношениях с Блоком см.: ЛН, т. 92, кн. 3, с. 131–132.], очень богатый человек, знаток и любитель искусства, затевал в Петербурге большое театральное дело и хотел поставить в своем будущем театре какую-нибудь новую, значительную вещь. Он знал и исключительно любил стихи Блока и пожелал познакомиться с поэтом. Знакомство состоялось через посредство Ремизова. По желанию Терещенко Блок взялся написать сценарий для балета. Балет – из провансальской жизни. Музыку будет сочинять А. К. Глазунов[168 - Александр Константинович Глазунов (1865–1936) – композитор и дирижер. О музыке к «Розе и Кресту» см.: Глазунов. Исследования. Материалы. Публикации. Письма, т. I. Л., 1959, с. 98, 211, 415.]. Ал. Ал. тотчас же стал работать над балетом. Скоро выяснилось, что будет не балет, а оперное либретто, но и эта мысль вскоре была оставлена, и на свет явилась драма «Роза и Крест».
Бесконечная требовательность автора к собственному труду, искание классической простоты, законченности, сжатости формы – все это заставляло поэта периодами охладевать к писанию. Но Михаил Иванович Терещенко настаивал на продолжении работы, верил в силу и талант Блока и принимал близко к сердцу все, что касалось «Розы и Креста».
Еще в июне 1912 года Ал. Ал. писал матери в Шахматово: «Одно время мне показалось, что выходит не опера, а драма, но выходит все-таки опера: меня ввело в заблуждение одно из действующих лиц, которое по характеру скорее драматично, чем музыкально. Это – неудачник Бертран».
Когда Ал. Ал. прочел нам «Розу и Крест» в первоначальной редакции, приехав для этого в Шахматово, нам сразу стало ясно, что написана драма. Но и после он продолжал работать над нею и переделывать ее еще и еще, добиваясь выпуклости характеров, ясности, сжатости, простоты форм. В феврале 1913 года драма «Роза и Крест» была закончена.
Летом 1912 года Блок приезжал к нам в Шахматово раза два и всякий раз ненадолго. Л. Д. играла в Териоках в труппе Мейерхольда, состоявшей почти исключительно из молодежи, находившейся под влиянием своего режиссера. Играли пьесы классического и строго-литературного репертуара и пантомимы, сочиненные самим Мейерхольдом. Любовь Дмитриевне поручали крупные роли. Она была очень занята; в свободные дни приезжала к мужу. Ал. Ал. ездил в Териоки, где, разумеется, всегда оказывался желанным гостем. В первый раз попал он туда на несостоявшееся открытие театра. 5 июня он пишет матери о том, как хорошо провел этот вечер с актерами:
«Сидели у них в даче, она большая и пахнет как старый помещичий дом… Все вместе ели, пили чай, ходили по их огромному парку».
Тут же состоялась репетиция одной из пьес. Ал. Ал. остался доволен настроением актеров: «Духа пустоты нет, они все очень подолгу заняты, действительно. Все веселые и серьезные… У Мейерхольда прекрасные дети и такс. За сосновым парком – море, очень торжественное, был шторм, кабинки все разбиты, на горизонте маяк».
После открытия спектаклей – 10 июня:
«Театр, хотя и небольшой, был почти полный и хлопали много. Мне ничего не понравилось… Правда, прекрасную и пеструю шутку Сервантеса[169 - «Два болтуна».] разыграли бойко… Спектаклю предшествовали две речи – Кульбина[170 - Доктор Николай Иванович Кульбин (1866–1917) – один из инициаторов театра – художник-футурист, человек уже пожилой, очень симпатичный и всеми в своей среде любимый. Художник и теоретик футуризма, по профессии – военный врач. См.: А. Е. Парнис, Р. Д. Тименчик. Программы «Бродячей собаки». – Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1983. Л., 1985, с. 190–191.] и Мейерхольда, очень запутанные и дилетантские (к счастью – короткие), содержания (насколько я сумел уловить), очень мне враждебного (о людях как о куклах, об искусстве как о «счастье»)… Не хотелось идти на дачу пить чай, так что мы только немного прошли с Любой вдоль очень красивого и туманного моря, над которым висел кусок красной луны, – и потом я уехал на станцию…»
В Териоках Блок смотрел и Кальдерона («Поклонение Кресту») и пьесу Уайльда, в которой Л. Дм. играла роль светской старухи[171 - Пьеса Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». О спектаклях в Териоках см.: К. Рудницкий. Режиссер Мейерхольд. М., 1969, с. 150–156.]. И все это его не удовлетворило. Однако резких приговоров он не произносил, и когда осуществилась постановка неизданной стриндберговской пьесы «Виновны – невиновны», он остался вполне доволен. Пьесу эту ставили вскоре после смерти ее автора, в переводе Ганзен. Роль Жанны играла Любовь Дмитриевна. Ал. Ал. написал матери 15 июля:
«Спектакль был весь праздничный и, несмотря на некоторые частные неудачи, был настоящий. Прежде всего Пяст прочел большую речь за черным столом перед рампой, густо заложенной папоротником. Все первое действие Люба не сходила со сцены и, наконец, по-настоящему понравилась мне как актриса: очень сильно играла. Действие происходит в церкви, Жанна (которую она играла) стоит среди церкви с ребенком на руках и произносит слова, полные страшных предчувствий (пьеса написана тогда же, когда «Inferno»[172 - «Ад» (лат.).]); Люба говорила наконец своим, очень сильным и по звуку и по выражению голосом, который очень шел к языку Стриндберга. Впервые услышав этот язык со сцены, я поразился: простота доведена до размеров пугающих: жизнь души переведена на язык математических формул, а эти формулы в свою очередь написаны условными знаками, напоминающими зигзаги молний на очень черной туче; в те годы Стриндберг говорил исключительно языком молний; мир, окружавший его тогда, был, как грозовая июльская туча, – tabula rasa[173 - Гладкая доска (т. е. чистый лист) (лат.).], на которой молния его воли вычерчивала какие угодно зигзаги.
Режиссер (Мейерхольд) и декораторы (с помощью режиссера), по-видимому, это если не поняли, то почувствовали, и потому – все 8 картин на сцене, не ярко освещенной, задний фон – сине-черный занавес, сквозь который просвечивают беспорядочные огни. Иногда появится на нем красное пятно; все время мелькают на нем то бутылки с вином (парижское кафе), то лоснящийся цилиндр и узкий сюртук героя, которого математика Рока загоняет в ужасное; то битая морда сыщика или комиссара; то красное манто кокотки и отсвечивающий рубином крест у нее на груди; вдруг среди кафе, в сценическом положении, почти нелепом, проскальзывают черты софокловой трагедии; полицейский комиссар вдруг неожиданно и нелепо начинает напоминать вестника древней трагедии.
Ничего, кроме сине-черного и красного. Таковы Софокл и Стриндберг.
Среди публики, очень внимательной, довольно многочисленной и непохожей на русскую дачную шваль (много шведов и финнов), была дочь Стриндберга; Пяст представил меня ей, но я, к сожалению, не мог сказать ничего ни по-шведски, ни по-немецки, она – очень высокая худая пожилая женщина в треуголке с белым пером, одета просто; некрасивостью и измученностью очень напоминает отца – напоминает самым лучшим образом; она говорила, между прочим, что Люба играет Жанну лучше, чем гельсингфорсская актриса».
В июне этого лета в Териоках произошло трагическое происшествие, о котором Ал. Ал. сообщает матери в нескольких письмах: утонул молодой художник Сапунов, с которым поэт сошелся предыдущей зимой; 15 июня Блок пишет:
Сегодня английские стачки кончаются (по-видимому), но вчера бастовало до 250000 рабочих. Это – «всемирный рекорд», говорят парижские газеты и выражают удивление, что стачка достигла таких размеров в самой демократической стране! При этом, одна Франция теряла до миллиона франков в день. Англия – нечего и говорить, потому что 60 % английской промышленности сосредоточено в наиболее пострадавшем Ливерпуле. На сотнях больших пароходов сгнили фрукты, рыба и прочее. Не было хлеба, не было света. Все это сопровождалось бесконечными анекдотами, начиная с того, что лорды (у которых только что отнято их знаменитое veto) уверяли в парламенте, что все благополучно, – и кончая обществом эсперантистов, которые уныло сидели на чемоданах на лондонском вокзале и тщетно ждали поезда, мечтая о соединении всех народов при помощи эсперанто. Но они мечтали об этом в «самой демократической стране», где рабочие доведены до исступления 12-ти часовым рабочим днем (в доках) и низкой платой, и где все силы идут на держание в кулаке колоний и на постройку «супер-дреднаутов». Именно, все силы – в последние годы, когда Европе некогда тратить силы ни на что другое, до того заселены все углы и до того прошли времена романтизма.
– В Германии и Франции – нисколько не лучше. Вильгельм ищет войны и, по-видимому, будет воевать… французы поминают лихом Наполеона III и собираются «mourir pour la patrie»[155 - Умереть за родину (фр.).]. Все это вместе напоминает оглушительную и усталую ярмарку, на которую я сейчас смотрю. Вся Европа вертится и шумит, и втайне для этого нет никаких причин более, потому, что все прошло…
Славянское никогда не входило в их цивилизацию и, что всего важнее, пролетало каким-то чуждым астральным телом сквозь всю католическую культуру. Это мне особенно интересно. Я надеюсь наблюсти это тайное вторжение славянского пафоса (его отрасли, самой существенной для меня теперь) в одном уголке Парижа: на задворках Notre Dame, за моргом, есть островок, где жили Бодлер и Теофиль Готье; теперь там в старом доме – польская библиотека и при ней – маленький музей Мицкевича… Иначе говоря, на этом островке, мало обитаемом и тихом, хотя и в центре Парижа, как бы поставлен знак»…
В следующем письме из Кэмпера от 24 августа описывается знаменитое похищение Джиоконды в Париже:
«Итак, мне не суждено увидать Джиоконду. Не знаю, описаны ли в России все подробности ее исчезновения, – здесь газеты полны этим.
22-го утром я лежал в постели и размышлял (или мне полуснилось – не помню) о том, как американский миллиардер похищает Венеру Милосскую. Через час Люба приносит газету с известием о Джиоконде.
Она была на месте в понедельник в 7 часов утра. В этот день Лувр закрыт для публики, пускают только художников и прочих известных лиц. Народу, однако, было много. Требовалась огромная смелость и профессиональная ловкость, чтобы улучить время снять картину… пройти через две залы, спуститься по маленькой лестнице и снять раму и стекло, нисколько их не испортив (это было сделано в ватерклозете). Потом надо было нести картину по улице – она довольно велика и на деревянной доске. – В 10-м часу ее хватились, и в 12 уже Лувр был закрыт (и до сих пор не открыт). – Вся парижская полиция на ногах…
Удивительна все-таки история этой картины. Джиоконда получала письма, хранители Лувра и сторожа наблюдали перед ней всевозможные нервные волнения»…
Наконец, 27 августа приехали в Париж. Остановились в одном из отелей Латинского квартала. Но жара не прекращалась, и под влиянием жары и засухи Париж производил особенно тягостное впечатление: «Париж – Сахара – желтые ящики, среди которых, как мертвые оазисы, черно-серые громады мертвых церквей и дворцов. Мертвая Notre Dame, мертвый Лувр. В Лувре – глубокое запустение: туристы, как полотеры, в заброшенном громадном доме. Потертые диваны, грязные полы и тусклые темные стены, на которых сереют – внизу – Дианы, Аполлоны, Цезари, Александры и Милосская Венера с язвительным выражением лица (оттого, что у нее закопчена правая ноздря), – а наверху – Рафаэли, Мантеньи, Рембрандты – и четыре гвоздя, на которых неделю назад висела Джиоконда. Печальный, заброшенный Лувр – место для того, чтобы приходить плакать и размышлять о том, что бюджет морского и военного министерства растет каждый год, а бюджет Лувра остается прежним уже 60 лет. Первая причина (единственная) кражи Джиоконды – дреднауты. – Впрочем, парижанам уже и это весело: на улицах кричат с утра до ночи: «As tu vu la Joconde? Elle est retrouvel – Dix centimes!»[156 - «Ты видел Джоконду? Она нашлась! – Десять сантимов!» (фр.).] Или: «La Joconde! Son sourire et son enveloppe – dix centimes ensemble!»[157 - «Джоконда! Ее улыбка вместе с конвертом – все за десять сантимов!» (фр.)]
В следующем письме (4 сент.) из Парижа Блок уже прямо пишет: «Я не полюбил Парижа, а многое в нем даже возненавидел. Я никогда не был во Франции, ничего в ней не потерял, она мне глубоко чужда…»
Дальше описываются улицы, площади, сады, нравы Парижа – все в самых тоскливых тонах: могила Наполеона, да вид с Монмартра – единственно это оставило в нем хорошее впечатление. И в конце письма он прибавляет:
«Вследствие всего этого, я уезжаю сегодня или завтра в Брюссель, а Люба через неделю уедет прямо в Петербург, искать квартиру».
Затем, уже от 5-го сентября следует carte postale[158 - Открытка (фр.).], а за нею письмо из Антверпена, который Блоку очень понравился:
«Огромная, как Нева, Шельда, тучи кораблей, доки, подъемные краны, лесистые дали, запах моря, масса церквей, старые дома, фонтаны, башни. Музей так хорош, что даже у Рубенса не все противно; жарко не так, как в Париже. Вообще – уже благоухает влажная Фландрия… Завтра поеду в Брюгге или Гент».
Брюгге не понравился. О нем Блок пишет уже из Роттердама 10 сентября:
«Брюгге, из которого Роденбах и туристы сделали «северную Венецию» (Venise du Nord), довольно отчаянная мурья. Лодочник полтора часа таскал меня по каналам. Действительно – каналы, лебеди, средневековое старье, какие-то тысячелетние подсолнухи и бузины по берегам. Повертывая обратно: «А теперь новый вид, – n'est ce pas?»[159 - Не правда ли? (фр.)] Но ничего особенно нового: другая бузина, другой подсолнух и другая собака облаивает лодку с берега…»
В следующем письме из Амстердама Ал. Ал. пишет о жаре, о том, что кусают москиты, путешествовать надоело, и теперь он поедет через Берлин прямо в Петербург.
Из Берлина – по обыкновению с чувством удовлетворения: «Едва переехали и голландскую границу, стало приятно, очень я люблю немцев».
Вслед за этим письмом мать получила увесистый конверт с карточками зверей из зоологического сада и с раскрашенным портретом Kaiser'a. На обратной стороне карточек написано (16 сентября):
«Я в Берлине отдыхаю, хотя здесь тоже шумно и людно, и хотя я целые дни проводил в музеях. Все музеи (художественные) я уже осмотрел. Здесь не то, что в Париже, искусство можно видеть и понимать. Большого так много, что сразу приходишь в отчаянье, но потом начинаешь вникать и видеть. Хождение по музеям – целая наука и особого рода подвижничество; в Германии (и, надо отдать справедливость, в Голландии и Бельгии) музеи устроены почти идеально в смысле особого уюта и обстановки.
Вчера узнал о покушении на Столыпина[160 - Премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин был смертельно ранен Д. Богровым в Киеве 1 сентября 1911 г. (умер 5 сентября).]. Зоологический сад помог преодолеть суматоху, возникшую от этого в душе… Хочу завтра пойти к Рейнгардту[161 - Макс Рейнгардт (1873–1943) – знаменитый немецкий театральный режиссер.] – идет Гамлет»…
Наконец, от 18 сентября последнее письмо из-за границы:
«Вчера было очень хорошее впечатление в Гамлете. Смотреть Александра Моисси[162 - Александр (Сандро) Моисси (1880–1935) – немецкий актер.] во второй раз уже значительно хуже, чем в первый (он был Эдипом). Однако он очень талантливый актер. Это – берлинский Качалов, только помоложе, и потому – менее развит. Впрочем, нужно иметь много такта, чтобы возбуждать недоумение в роли Гамлета всего два-три раза. Несколько мест у него было очень хороших, особенно одно: Гамлет спрашивает у Горацио, седая ли голова была у призрака? «Нет, – отвечает Горацио, – серебристо-черная, как при жизни». Тогда Моисси отворачивается и тихо плачет.
Офелия была очень милая, акварельная. Великолепный актер играл короля, такого короля в Гамлете я вижу в первый раз. Он был, как две капли воды, похож на Мартына[163 - Шахматовский работник – латыш.], и это оказалось очень подходящим. Были хороши и Полоний, и Горацио, и Розенкранц, и Гильденштерн, и Фортинбрас (!), и королева, и Лаэрт, при всей неловкости положения этих последних. Я сидел в первом ряду и особенно почувствовал холод со сцены, когда поднялся занавес и Марцелл стал греться у костра в серой темноте зимней ночи на фоне темного неба. Горацио пришел и сказал, что он только «Ein Stuck Horatio»[164 - «Кусочек Горацио» (нем.).], а Гамлет пришел в теплой шубе – все это очень хорошо.
Ужасно много разговаривает Гамлет, вчера это было мне не совсем приятно, хотя это естественный процесс творчества и английского и нашего Шекспира: все благородство молчания и аристократизм его они переселяют в женщин – и Офелия и Софья молчаливы; оттого приходится болтать принцам – Гамлету и Чацкому, как страдательным лицам; но я предпочел бы, чтобы и они были несколько «воздержаннее на язык». Оба ужасно либеральничают и этим угождают публике, которая того не стоит… Рейнгард, будучи немецким Станиславским, придумал очень хороший стрекочущий звук при появлении тени: не то петухи вдали, а впрочем – неизвестно что, как всегда бывает в этих случаях…»
Следующее письмо от 7 сент. прислано в Шахматове уже из Петербурга: «Я очень рад, что вернулся… По Германии я ехал ночью и великолепно спал один в купе 1 класса, дав пруссаку 3 марки. В России зато весь день и часть ночи принимал участие в интересных и страшно тяжелых разговорах, каких за границей никто не ведет. Сразу родина показала свое и свиное и божественное лицо…»
В Шахматове после отъезда Блока за границу мы с сестрой жили не весело. Она все болела, и ее пугало переселение в Полтаву. Но в августе вдруг из Полтавы пришло от Фр. Фел. радостное письмо: он получил бригаду в Петербурге. Это был счастливый момент в нашей жизни. Алекс. Андр. тотчас же написала об этом сыну, и он ответил ей уже из Берлина, что весь день радовался и доволен тем, что это так естественно устроилось.
Квартиру в этом сезоне Блокам переменить не пришлось: не нашли ничего подходящего и остались на Монетной.
Мать и отчим поселились на Офицерской, 40, против Литовского замка. Мать и сын виделись часто, и на Монетную часто ходил денщик с какими-нибудь записками или посылками. Бывало и так, что придет по почте коротенькая записка, всего несколько слов: «Мама, тебе очень грустно. А я думаю о тебе. Саша».
Такие посылки несказанно ободряли мать.
В ноябре месяце все вместе – Блоки, Кублицкие и я – взяли ложу в Мариинский театр и отправились слушать «Хованщину». Всех нас поразила опера Мусоргского. Ал. Ал. был нервен и волновался. Ему нравился Шаляпин. На другой день мать получила от него письмо: «…«Хованщина» еще не гениальна (т. е. не дыхание св. духа), как не гениальна еще вся Россия, в которой только готовится будущее. Но она стоит в самом центре, именно на той узкой полосе, где проносится дыхание духа…»
Эта зима 1911-12 года прошла под глубоким и стойким впечатлением: Ал. Ал. узнал Стриндберга, на которого указал ему Пяст, указал настойчиво, так что и потом Ал. Ал. неоднократно повторял: «Пяст научил меня Стриндбергу»[165 - О своем отношении к Стриндбергу Пяст подробно пишет в книге воспоминаний «Встречи». Блок посвятил Стриндбергу статью «Памяти Августа Стриндберга» (V, 463–469).]. Знакомство с произведениями Стриндберга он считал одним из событий своей жизни. Стихийное начало, глубокий мистицизм, специальная склонность к глубокому изучению естественных наук, общая культурность европейского склада – такое сочетание казалось Блоку до крайности знаменательным, и в этом периоде он рассматривал все события своей жизни с точки зрения Стриндберга.
В феврале 1912 г. приехал в Петербург Б. Н. Бугаев. Блок виделся с ним не раз. Эти свидания, состоявшиеся после долгого перерыва, после многих уже миновавших разногласий, скрепили связь между Блоком и Белым, который тогда связал уже свою судьбу со Штейнером[166 - Рудольф Штейнер (1861–1925) – немецкий теософ, основатель и руководитель «Антропософского общества». Белый был приверженцем учения Штейнера, активным деятелем русского «Антропософского общества», участвовал в строительстве «Иоаннова храма» в Дорнахе (Швейцария).]. Лично Блоку теософия была чужда, но он писал матери: «Теософия в наше время, по-видимому, есть один из реальных путей познания мира; недаром ей предаются самые разнообразные и очень замечательные люди во всей Европе».
В эту зиму поэма «Возмездие» была отложена. Блок стал относиться к ней холоднее, с нерешительностью и долго не возвращался к начатому труду.
На Пасхе завязалось новое знакомство, имевшее важные последствия; Михаил Иванович Терещенко[167 - М. И. Терещенко (1886–1958) был чиновником при директоре императорских театров, владельцем издательства «Сирин». После Февраля – министр Временного правительства. О его отношениях с Блоком см.: ЛН, т. 92, кн. 3, с. 131–132.], очень богатый человек, знаток и любитель искусства, затевал в Петербурге большое театральное дело и хотел поставить в своем будущем театре какую-нибудь новую, значительную вещь. Он знал и исключительно любил стихи Блока и пожелал познакомиться с поэтом. Знакомство состоялось через посредство Ремизова. По желанию Терещенко Блок взялся написать сценарий для балета. Балет – из провансальской жизни. Музыку будет сочинять А. К. Глазунов[168 - Александр Константинович Глазунов (1865–1936) – композитор и дирижер. О музыке к «Розе и Кресту» см.: Глазунов. Исследования. Материалы. Публикации. Письма, т. I. Л., 1959, с. 98, 211, 415.]. Ал. Ал. тотчас же стал работать над балетом. Скоро выяснилось, что будет не балет, а оперное либретто, но и эта мысль вскоре была оставлена, и на свет явилась драма «Роза и Крест».
Бесконечная требовательность автора к собственному труду, искание классической простоты, законченности, сжатости формы – все это заставляло поэта периодами охладевать к писанию. Но Михаил Иванович Терещенко настаивал на продолжении работы, верил в силу и талант Блока и принимал близко к сердцу все, что касалось «Розы и Креста».
Еще в июне 1912 года Ал. Ал. писал матери в Шахматово: «Одно время мне показалось, что выходит не опера, а драма, но выходит все-таки опера: меня ввело в заблуждение одно из действующих лиц, которое по характеру скорее драматично, чем музыкально. Это – неудачник Бертран».
Когда Ал. Ал. прочел нам «Розу и Крест» в первоначальной редакции, приехав для этого в Шахматово, нам сразу стало ясно, что написана драма. Но и после он продолжал работать над нею и переделывать ее еще и еще, добиваясь выпуклости характеров, ясности, сжатости, простоты форм. В феврале 1913 года драма «Роза и Крест» была закончена.
Летом 1912 года Блок приезжал к нам в Шахматово раза два и всякий раз ненадолго. Л. Д. играла в Териоках в труппе Мейерхольда, состоявшей почти исключительно из молодежи, находившейся под влиянием своего режиссера. Играли пьесы классического и строго-литературного репертуара и пантомимы, сочиненные самим Мейерхольдом. Любовь Дмитриевне поручали крупные роли. Она была очень занята; в свободные дни приезжала к мужу. Ал. Ал. ездил в Териоки, где, разумеется, всегда оказывался желанным гостем. В первый раз попал он туда на несостоявшееся открытие театра. 5 июня он пишет матери о том, как хорошо провел этот вечер с актерами:
«Сидели у них в даче, она большая и пахнет как старый помещичий дом… Все вместе ели, пили чай, ходили по их огромному парку».
Тут же состоялась репетиция одной из пьес. Ал. Ал. остался доволен настроением актеров: «Духа пустоты нет, они все очень подолгу заняты, действительно. Все веселые и серьезные… У Мейерхольда прекрасные дети и такс. За сосновым парком – море, очень торжественное, был шторм, кабинки все разбиты, на горизонте маяк».
После открытия спектаклей – 10 июня:
«Театр, хотя и небольшой, был почти полный и хлопали много. Мне ничего не понравилось… Правда, прекрасную и пеструю шутку Сервантеса[169 - «Два болтуна».] разыграли бойко… Спектаклю предшествовали две речи – Кульбина[170 - Доктор Николай Иванович Кульбин (1866–1917) – один из инициаторов театра – художник-футурист, человек уже пожилой, очень симпатичный и всеми в своей среде любимый. Художник и теоретик футуризма, по профессии – военный врач. См.: А. Е. Парнис, Р. Д. Тименчик. Программы «Бродячей собаки». – Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1983. Л., 1985, с. 190–191.] и Мейерхольда, очень запутанные и дилетантские (к счастью – короткие), содержания (насколько я сумел уловить), очень мне враждебного (о людях как о куклах, об искусстве как о «счастье»)… Не хотелось идти на дачу пить чай, так что мы только немного прошли с Любой вдоль очень красивого и туманного моря, над которым висел кусок красной луны, – и потом я уехал на станцию…»
В Териоках Блок смотрел и Кальдерона («Поклонение Кресту») и пьесу Уайльда, в которой Л. Дм. играла роль светской старухи[171 - Пьеса Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». О спектаклях в Териоках см.: К. Рудницкий. Режиссер Мейерхольд. М., 1969, с. 150–156.]. И все это его не удовлетворило. Однако резких приговоров он не произносил, и когда осуществилась постановка неизданной стриндберговской пьесы «Виновны – невиновны», он остался вполне доволен. Пьесу эту ставили вскоре после смерти ее автора, в переводе Ганзен. Роль Жанны играла Любовь Дмитриевна. Ал. Ал. написал матери 15 июля:
«Спектакль был весь праздничный и, несмотря на некоторые частные неудачи, был настоящий. Прежде всего Пяст прочел большую речь за черным столом перед рампой, густо заложенной папоротником. Все первое действие Люба не сходила со сцены и, наконец, по-настоящему понравилась мне как актриса: очень сильно играла. Действие происходит в церкви, Жанна (которую она играла) стоит среди церкви с ребенком на руках и произносит слова, полные страшных предчувствий (пьеса написана тогда же, когда «Inferno»[172 - «Ад» (лат.).]); Люба говорила наконец своим, очень сильным и по звуку и по выражению голосом, который очень шел к языку Стриндберга. Впервые услышав этот язык со сцены, я поразился: простота доведена до размеров пугающих: жизнь души переведена на язык математических формул, а эти формулы в свою очередь написаны условными знаками, напоминающими зигзаги молний на очень черной туче; в те годы Стриндберг говорил исключительно языком молний; мир, окружавший его тогда, был, как грозовая июльская туча, – tabula rasa[173 - Гладкая доска (т. е. чистый лист) (лат.).], на которой молния его воли вычерчивала какие угодно зигзаги.
Режиссер (Мейерхольд) и декораторы (с помощью режиссера), по-видимому, это если не поняли, то почувствовали, и потому – все 8 картин на сцене, не ярко освещенной, задний фон – сине-черный занавес, сквозь который просвечивают беспорядочные огни. Иногда появится на нем красное пятно; все время мелькают на нем то бутылки с вином (парижское кафе), то лоснящийся цилиндр и узкий сюртук героя, которого математика Рока загоняет в ужасное; то битая морда сыщика или комиссара; то красное манто кокотки и отсвечивающий рубином крест у нее на груди; вдруг среди кафе, в сценическом положении, почти нелепом, проскальзывают черты софокловой трагедии; полицейский комиссар вдруг неожиданно и нелепо начинает напоминать вестника древней трагедии.
Ничего, кроме сине-черного и красного. Таковы Софокл и Стриндберг.
Среди публики, очень внимательной, довольно многочисленной и непохожей на русскую дачную шваль (много шведов и финнов), была дочь Стриндберга; Пяст представил меня ей, но я, к сожалению, не мог сказать ничего ни по-шведски, ни по-немецки, она – очень высокая худая пожилая женщина в треуголке с белым пером, одета просто; некрасивостью и измученностью очень напоминает отца – напоминает самым лучшим образом; она говорила, между прочим, что Люба играет Жанну лучше, чем гельсингфорсская актриса».
В июне этого лета в Териоках произошло трагическое происшествие, о котором Ал. Ал. сообщает матери в нескольких письмах: утонул молодой художник Сапунов, с которым поэт сошелся предыдущей зимой; 15 июня Блок пишет: