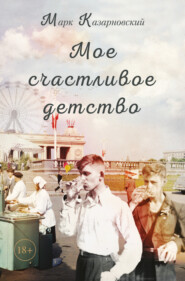По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Черная графиня
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Басманная больница на Новой Басманной
Старая Басманная
Площадь Разгуляй. Дворец Брюса, ныне Институт строительный
Глава II. Графиня Миттрах Елизавета Николаевна
Туман заволакивает и переносит меня в Смольный институт. Так его называли. Но следовало добавлять: благородных девиц.
Мне, как и остальным в группе, – по семь-восемь лет. Я, помню, много плакала, но – по ночам. Днем мы должны иметь вид бодрый и довольный. А мы все скучали по мамам. По теплу, которое мы запомнили надолго. Может – на всю жизнь.
А пока я, как и другие, «кофейница», или кофулька[12 - Цвет платья – кофейный.]. И мы с уважением и радостью смотрели на старших, с их синими, затем серыми, и самых старших – белыми платьями.
Да, посмотрели бы сейчас на меня мои смолянки. Вся в кровоподтеках, да и на левой руке уж точно будет протез в виде перчатки.
Я закончила Смольный как лучшая. Получила шифр[13 - Шифр – золотые знаки. Вручались лучшим выпускницам Смольного института.] – золотой вензель с инициалами императрицы.
Подошел срок выпускных экзаменов. Император, императрица и их дети – присутствовали.
На меня – посматривали. Я уже знала, что я – тоже Романова. Только как-то без брака я родилась. Поэтому и воспитывало меня до 7 лет семейство Миттрахов. Из Финляндии они были, аристократы финно-шведские. Знаю, мне дали титул графини. Все бы ничего, но сама не пойму – у меня появилась обида на императорское семейство. Я все видела, чувствовала и думала – как же так. Почему меня обездолили. Почему я не получила ни материнской ласки в детстве, ни теплоты семьи в юности.
Не одна я плакала по ночам да тосковала в храме на дежурной молитве. Все мы, дети, хотели вернуться домой. Но вот что однажды произошло.
Я этот день вспоминаю постоянно. Меня послали в сад при институте, подрезать розы. У ограды они особенно разрослись. Я уже была в выпускном классе, шла на шифр. Свое белое повседневное платье прикрыла фартуком. Взяла садовые ножницы и перчатки и так тихонько работаю у ограды. Знаю, что глазеть по сторонам не принято, но… А за оградой, недалеко от въезда, по которому к нам император или наследник приезжали, болтался, в смысле, ходил офеня[14 - Офеня – торговец с лотка, который у него приспособлен на лямках. Имеет жетон – разрешение на торговлю.]. Такой высокий, крепкий. Курит, запах махорки легко меня достигает. Поглядывает. И все улыбается. Чего ему весело.
День пасмурный, тучи низко так несутся, словно предупреждают – эй, девушка, поберегись.
Меня все зовут Миттрашка, у нас у всех были прозвища фамильные. По именам не называли. Поэтому, когда уже сейчас, через много лет, встречаешь кого, то и слышишь:
– Ох, голубушка Нарышкина, как ты хороша, ах-ах.
Я эти «ахи» и вздохи ненавидела. Да и многое другое. В общем, вместо радости у меня все больше развивалась горечь. Видно, нельзя ребеночка лишать мамы и детства. Но мы привыкли всё скрывать. Поэтому и выглядели всегда довольными, радушными, веселыми и счастливыми. Хотя у многих это было не так. В частности, у меня.
Так вот, подрезаю розы. Офеня у ограды крутится. Уже полицейский, что дежурит у ворот, негромко так сказал:
– Чё здесь толчешься, неумытый. Вали отсюда, государю не вздумай на пути попадаться. Гляди, в околоток живо у меня загремишь.
Офеня соглашается, но объясняет охраннику, что ждет, когда малышек на прогулку выведут. Уж они у него всегда конфетки да ландринки берут. И пакетик конфет полисмену дает.
Я мысленно речь офени подправляю, но и разглядываю.
А он, мимо проходя, неожиданно подошел к ограде и тихонько говорит:
– Чё, барышня, интересно тебе на жизнь городскую смотреть?
Я улыбаюсь улыбкой номер пять, то есть приветливой.
– Конечно, сударь, очень даже интересно.
– И что, ты, может, и государя видела?
– И неоднократно, – отвечаю.
Тут он неожиданно быстро подошел вплотную к загородке, свой столик с груди передвинул и спрашивает:
– А что, барышня, ты целовалась с парнями?
У меня все онемело. Мы об этом почти никогда даже между собой не говорили. И на исповеди, и у мадам Ливен даже в мыслях не было – говорить о поцелуях. А уж целоваться! Не с истопником же.
Да, не говорили. Но – думали. И мечтали, что государь или великий князь когда-нибудь… когда-нибудь…
Поэтому я онемела и даже не нашлась что ответить.
Он же вдруг сказал:
– Подойди поближе.
Взял мои руки, потянул тихонько к решетке и – поцеловал!!! Пахло табаком, незнакомыми совершенно запахами. Потом, в другой жизни, оказалось, что так пахнут мужчины.
Я так изумилась, что и не подумала – меня же может видеть весь Смольный. Но Смольный, на мое счастье или беду, заснул.
А офеня показал ряд белых зубов и, крикнув:
– Приходи еще, меня Иваном зовут, – быстро пошагал от ограды.
К въезду приближался конный конвой.
Верхом въехал император. Я присела. А что делать, не нарочно же, я работала, а не караулила его величество. Как некоторые психопатические мовешки[15 - Мовешки – дурные, непослушные. От movaise – дурная (фр.).].
Государь подошел.
– Ну, как ты здесь, графиня Миттрах? Тебя хвалят. Молодец, – и тихонько щипнул меня за щеку.
А Смольный наш вдруг очнулся от спячки. И все видел. И как я красиво, не растерявшись, сделала книксен, и как ласково император улыбался, нежно касаясь моей щеки.
Ох, эти подружки. Девицы. Мы уж были в полной, можно сказать, зрелости, а вот надо же. За щечку ущипнул! Четыре дня все мне только и говорили: ах, какая ты! Ох, какое же счастье у тебя получилось! А что ты чувствовала? Правда, что рука императора пахнет волшебным ладаном?
И еще, и еще.
Но завтра я взяла ножницы и с утра была снова у решетки.
И… покатилось, помчалось. Я считала дни. Нет, часы. Нет же, даже минуты. Когда выпускать нас, смолянок, будут. Правда, офеня больше не появлялся.
Выпустили. Я получила шифр. Еще бы, все годы была парфетка.
Дома приняли тепло. Правда, сказали, что папенька получил назначение в Москву, куда мы и переезжаем.
Я больше Ивана не видела. Но каждую ночь снилось – он меня целует. Вот наваждение. Эй, Фрейд, где ты!
Старая Басманная
Площадь Разгуляй. Дворец Брюса, ныне Институт строительный
Глава II. Графиня Миттрах Елизавета Николаевна
Туман заволакивает и переносит меня в Смольный институт. Так его называли. Но следовало добавлять: благородных девиц.
Мне, как и остальным в группе, – по семь-восемь лет. Я, помню, много плакала, но – по ночам. Днем мы должны иметь вид бодрый и довольный. А мы все скучали по мамам. По теплу, которое мы запомнили надолго. Может – на всю жизнь.
А пока я, как и другие, «кофейница», или кофулька[12 - Цвет платья – кофейный.]. И мы с уважением и радостью смотрели на старших, с их синими, затем серыми, и самых старших – белыми платьями.
Да, посмотрели бы сейчас на меня мои смолянки. Вся в кровоподтеках, да и на левой руке уж точно будет протез в виде перчатки.
Я закончила Смольный как лучшая. Получила шифр[13 - Шифр – золотые знаки. Вручались лучшим выпускницам Смольного института.] – золотой вензель с инициалами императрицы.
Подошел срок выпускных экзаменов. Император, императрица и их дети – присутствовали.
На меня – посматривали. Я уже знала, что я – тоже Романова. Только как-то без брака я родилась. Поэтому и воспитывало меня до 7 лет семейство Миттрахов. Из Финляндии они были, аристократы финно-шведские. Знаю, мне дали титул графини. Все бы ничего, но сама не пойму – у меня появилась обида на императорское семейство. Я все видела, чувствовала и думала – как же так. Почему меня обездолили. Почему я не получила ни материнской ласки в детстве, ни теплоты семьи в юности.
Не одна я плакала по ночам да тосковала в храме на дежурной молитве. Все мы, дети, хотели вернуться домой. Но вот что однажды произошло.
Я этот день вспоминаю постоянно. Меня послали в сад при институте, подрезать розы. У ограды они особенно разрослись. Я уже была в выпускном классе, шла на шифр. Свое белое повседневное платье прикрыла фартуком. Взяла садовые ножницы и перчатки и так тихонько работаю у ограды. Знаю, что глазеть по сторонам не принято, но… А за оградой, недалеко от въезда, по которому к нам император или наследник приезжали, болтался, в смысле, ходил офеня[14 - Офеня – торговец с лотка, который у него приспособлен на лямках. Имеет жетон – разрешение на торговлю.]. Такой высокий, крепкий. Курит, запах махорки легко меня достигает. Поглядывает. И все улыбается. Чего ему весело.
День пасмурный, тучи низко так несутся, словно предупреждают – эй, девушка, поберегись.
Меня все зовут Миттрашка, у нас у всех были прозвища фамильные. По именам не называли. Поэтому, когда уже сейчас, через много лет, встречаешь кого, то и слышишь:
– Ох, голубушка Нарышкина, как ты хороша, ах-ах.
Я эти «ахи» и вздохи ненавидела. Да и многое другое. В общем, вместо радости у меня все больше развивалась горечь. Видно, нельзя ребеночка лишать мамы и детства. Но мы привыкли всё скрывать. Поэтому и выглядели всегда довольными, радушными, веселыми и счастливыми. Хотя у многих это было не так. В частности, у меня.
Так вот, подрезаю розы. Офеня у ограды крутится. Уже полицейский, что дежурит у ворот, негромко так сказал:
– Чё здесь толчешься, неумытый. Вали отсюда, государю не вздумай на пути попадаться. Гляди, в околоток живо у меня загремишь.
Офеня соглашается, но объясняет охраннику, что ждет, когда малышек на прогулку выведут. Уж они у него всегда конфетки да ландринки берут. И пакетик конфет полисмену дает.
Я мысленно речь офени подправляю, но и разглядываю.
А он, мимо проходя, неожиданно подошел к ограде и тихонько говорит:
– Чё, барышня, интересно тебе на жизнь городскую смотреть?
Я улыбаюсь улыбкой номер пять, то есть приветливой.
– Конечно, сударь, очень даже интересно.
– И что, ты, может, и государя видела?
– И неоднократно, – отвечаю.
Тут он неожиданно быстро подошел вплотную к загородке, свой столик с груди передвинул и спрашивает:
– А что, барышня, ты целовалась с парнями?
У меня все онемело. Мы об этом почти никогда даже между собой не говорили. И на исповеди, и у мадам Ливен даже в мыслях не было – говорить о поцелуях. А уж целоваться! Не с истопником же.
Да, не говорили. Но – думали. И мечтали, что государь или великий князь когда-нибудь… когда-нибудь…
Поэтому я онемела и даже не нашлась что ответить.
Он же вдруг сказал:
– Подойди поближе.
Взял мои руки, потянул тихонько к решетке и – поцеловал!!! Пахло табаком, незнакомыми совершенно запахами. Потом, в другой жизни, оказалось, что так пахнут мужчины.
Я так изумилась, что и не подумала – меня же может видеть весь Смольный. Но Смольный, на мое счастье или беду, заснул.
А офеня показал ряд белых зубов и, крикнув:
– Приходи еще, меня Иваном зовут, – быстро пошагал от ограды.
К въезду приближался конный конвой.
Верхом въехал император. Я присела. А что делать, не нарочно же, я работала, а не караулила его величество. Как некоторые психопатические мовешки[15 - Мовешки – дурные, непослушные. От movaise – дурная (фр.).].
Государь подошел.
– Ну, как ты здесь, графиня Миттрах? Тебя хвалят. Молодец, – и тихонько щипнул меня за щеку.
А Смольный наш вдруг очнулся от спячки. И все видел. И как я красиво, не растерявшись, сделала книксен, и как ласково император улыбался, нежно касаясь моей щеки.
Ох, эти подружки. Девицы. Мы уж были в полной, можно сказать, зрелости, а вот надо же. За щечку ущипнул! Четыре дня все мне только и говорили: ах, какая ты! Ох, какое же счастье у тебя получилось! А что ты чувствовала? Правда, что рука императора пахнет волшебным ладаном?
И еще, и еще.
Но завтра я взяла ножницы и с утра была снова у решетки.
И… покатилось, помчалось. Я считала дни. Нет, часы. Нет же, даже минуты. Когда выпускать нас, смолянок, будут. Правда, офеня больше не появлялся.
Выпустили. Я получила шифр. Еще бы, все годы была парфетка.
Дома приняли тепло. Правда, сказали, что папенька получил назначение в Москву, куда мы и переезжаем.
Я больше Ивана не видела. Но каждую ночь снилось – он меня целует. Вот наваждение. Эй, Фрейд, где ты!