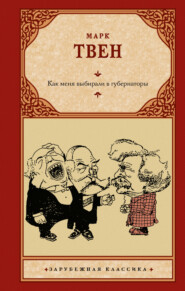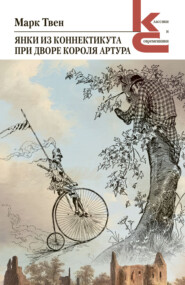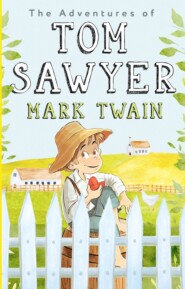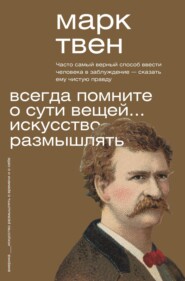По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жанна д'Арк
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О, я так и знала, я так и знала!
Она вскочила с места, как безумная вцепилась руками в волосы и начала судорожно рыдать, плакать, скорбеть, и она обращалась то к одному из нас, то к другому и с мольбой всматривалась в наши лица, как будто она надеялась найти в нас друзей и спасителей. Бедняжка, она сама никому не отказывала в дружбе и в помощи – даже раненому врагу на поле битвы.
– О, как жестоко со мной поступили! И неужели мое непорочное тело сегодня же сделается добычей огня и превратится в пепел? Ах, скорее согласилась бы я семь раз положить голову под секиру палача, чем быть обреченной на такую мучительную смерть! Когда я изъявила покорность, то мне обещали церковное заточение; и если бы меня отправили туда, а не оставили во власти моих врагов, то я спаслась бы от этой ужасной судьбы. О, я взываю к Господу, к Вечному Судье, – да узрит Он, как несправедливо поступили со мной!
Ни один из них не мог оставаться спокойным. Они отвернулись, слезы текли по их щекам. В одно мгновение я бросился на колени, к ногам Жанны. Она тотчас заметила опасность, которой я себя подвергал, и прошептала мне на ухо: «Вставай! Будь осторожнее, добрая душа! Ну вот… Да благословит тебя Господь на всю жизнь!» И я ощутил быстрое рукопожатие. Последняя человеческая рука, к которой Жанна прикоснулась перед смертью, была моя. Никто этого не видел; историки об этом не знают и не рассказывают, но я говорю вам святую правду. В следующее мгновение Жанна увидела приближающегося Кошона; она выступила вперед и, остановившись перед ним, сказала:
– Епископ, из-за вас я умираю.
Он не был пристыжен или взволнован, но ответил ей невозмутимо:
– Будь терпелива, Жанна. Ты умираешь, потому что, не сдержав обета, вернулась к своим прегрешениям.
– Горе мне! – сказала она. – Если бы вы отправили меня в церковную тюрьму и дали мне справедливых и благопристойных тюремщиц, как обещали, то ничего этого не случилось бы. И за это вам придется отвечать перед Богом!
Кошон не устоял, его спокойная самоуверенность несколько омрачилась, и, повернувшись, он покинул келью.
Некоторое время Жанна стояла, задумавшись. Она успокаивалась, но по временам еще вытирала глаза, и иногда рыдания снова потрясали ее тело; однако приступы отчаяния были уже не столь сильны и повторялись все реже и реже. Наконец, она подняла глаза и, увидев Пьера Мориса, который вошел одновременно с епископом, спросила у него:
– Мэтр Пьер, где я буду нынче вечером?
– Уповаешь ли ты на Бога?
– Да, и по милости Его я буду в раю.
Затем Мартен Ладвеню исповедал ее; она пожелала причаститься. Но как же можно приобщить Святых Даров человека, который всенародно отлучен от Церкви и в такой же степени лишен права участвовать в таинствах, как некрещеный язычник? Монах не решался сделать это и послал спросить у Кошона, как ему надлежит поступить. Но в глазах этого злодея все законы, Божественные и человеческие, были равны – он не уважал ни тех, ни других. Он приказал удовлетворить все желания Жанны. Последние ее слова, быть может, пробудили в нем страх, но они не могли проникнуть в его сердце, потому что сердца у него не было.
И была дарована евхаристия этой бедной душе, которая в течение стольких месяцев страстно мечтала об этой милости. То была торжественная минута. Пока мы находились в тайниках тюрьмы, открытый двор замка успел наполниться огромной толпой – то были бедняки, мужчины и женщины, которые узнали о том, что происходит в келье Жанны, и, смягчившись сердцем, пришли… Зачем? Они сами не знали. Мы их не видели и не знали об их присутствии. А за воротами замка собрались еще большие толпы – тоже бедный люд. И когда мимо них были пронесены зажженные свечи, и шествие со Святыми Дарами направилось к темнице Жанны, то все эти люди опустились на колени и начали молиться за нее; многие плакали. В келье Жанны началось таинство причащения, а издалека доносился тихий, печальный напев – невидимые толпы читали литию о спасении отходящей души.
С этих пор боязнь огненной смерти покинула Жанну, чтобы вернуться только на один короткий миг, после чего все ее страхи исчезнут, и вместо них воцарятся отвага и спокойствие.
Глава XXIII
В девять часов Орлеанская Дева, Освободительница Франции, покинула тюрьму и в ореоле красоты своей невинной юности отправилась отдать жизнь за отечество, которое она так горячо любила, и за короля, который покинул ее на произвол врагов. Она ехала в телеге, в которой возят только преступников. В одном отношении с ней поступили хуже, чем с преступником: ибо, хотя ей еще предстояло выслушать приговор, который будет вынесен светским судом, однако на колпаке, вроде митры надетом ей на голову, были заранее начертаны слова осуждения:
ЕРЕТИЧКА, НАРУШИТЕЛЬНИЦА ОБЕТА,
ОТСТУПНИЦА, ИДОЛОПОКЛОННИЦА!
В повозке рядом с ней сидели монах Мартен Ладвеню и мэтр Жан Масье. Она была девственно прекрасна, нежна и непорочна в своем длинном белом одеянии, и когда она появилась из сумрака тюрьмы и, залитая волнами солнечного света, на одно мгновение остановилась светозарным пятном на фоне мрачных ворот, то над огромной толпой бедного люда пронесся говор: «Видение, видение!» И, упав на колени, они начали молиться. Многие женщины плакали. И мольбы об умирающей зарождались снова и могучей волной неслись дальше, утешая и благословляя Жанну на протяжении всего пути к месту смерти. «Иисусе, будь милостив! Сжалься, святая Маргарита! Молитесь за нее, все святые, архангелы и преподобные мученики – молитесь за нее! Святые и ангелы, будьте ее заступниками! Боже милостивый, да минует ее гнев Твой! Господи Боже, спаси ее! Сжалься над ней, Боже милосердный, молим Тебя!»
Справедливо и верно говорит по этому поводу некий историк:
«Неимущие и беспомощные ничего не могли дать Жанне д'Арк, кроме своих молитв; но мы верим, что молитвы эти не были бесплодны. История не знает другого столь же трогательного события, как эта рыдающая, беспомощная, молящаяся толпа, которая стояла у тюремных стен старой крепости коленопреклоненная, с зажженными свечами в руках».
И так всю дорогу: далеко раскинулась коленопреклоненная многотысячная толпа, густо усеянная бледно-желтыми огнями свечей – точно поле, по которому разбросаны золотистые цветы.
Впрочем, не все были на коленях: исключение составляли английские солдаты. Они стояли непрерывной цепью по обе стороны дороги; а за этими живыми стенами находились коленопреклоненные толпы.
Во время пути какой-то безумец в одежде священника, прорвавшись сквозь толпу и цепь солдат, бросился на колени рядом с повозкой, крича и рыдая, и умоляюще простер руки:
– О, прости, прости!
Это был Луазлер!
И Жанна простила. Простила его от всего сердца, которое не знало ничего, кроме всепрощения, сострадания и жалости по отношению ко всем страждущим – каковы бы ни были их преступления. И ни единым словом не упрекнула она этого жалкого негодяя, который дни и ночи взыскивал пути лжи, предательства и лицемерия, чтобы погубить ее.
Солдаты едва не убили его – граф Варвик спас ему жизнь. Дальнейшая его судьба неизвестна. Он куда-то удалился от мира, чтобы наедине терзаться угрызениями совести.
На площади Старого Рынка стояли те же два помоста и тот же позорный столб, которые накануне находились на Сент-Уанском кладбище. Разместились, как и раньше: на одном помосте – Жанна и ее судьи; на другом – высокопоставленные лица, из коих на первом месте были Кошон и английский кардинал – Винчестерский. Площадь была запружена народом. Люди также толпились у окон и на крышах прилегающих домов.
Кончились приготовления. Мало-помалу все затихло, суета прекратилась, и воцарилось тягостное молчание – торжественное, грозное безмолвие.
Наконец по приказанию Кошона некий священник, по имени Николай Миди, начал читать проповедь, посредством которой он желал доказать, что если виноградная лоза осквернится заразой, то ее надо отрезать прочь, иначе она погубит весь виноградник, то есть Церковь. Он утверждал, что Жанна, как отъявленная грешница, является опасной угрозой чистоте и святости Церкви и что поэтому ее необходимо умертвить. Дойдя до конца своей речи, он повернулся к Жанне, помолчал и произнес:
– Жанна, Церковь отныне лишает тебя своей защиты. Ступай с миром!
Жанну посадили совершенно отдельно, на виду у всех: этим хотели показать, что Церковь от нее отрекается; и она сидела там, одинокая, терпеливо и смиренно, ожидая конца. Теперь к ней обратился Кошон. Ему советовали прочесть ей вслух текст ее отречения, и он принес с собой эту бумагу; но он передумал, боясь, что она отреклась бессознательно, – и таким образом опозорит его навеки. Он удовольствовался тем, что посоветовал ей помнить о своих грехах, покаяться в них и думать о спасении души. Затем он торжественно провозгласил ее отлученной от Церкви. Заключительными словами своей речи он предавал Жанну светской власти – для вынесения приговора и казни.
Жанна, вся в слезах, опустилась на колени и начала молиться. О ком? О себе самой? О нет – о короле французском. Нежно и ясно звучал ее голос, и все сердца трепетали. Она ни разу не подумала о предательстве короля, не подумала о том, что он ее покинул, не вспомнила, что только из-за его неблагодарности она осуждена на жестокую смерть. Она лишь помнила, что он – ее король, что она – его любящая подданная и что враги запятнали его честь ложными доносами и обвинениями, не дав ему возможности явиться для защиты. И вот, стоя на пороге смерти, она забыла о всех своих горестях и умоляла присутствующих отнестись к королю справедливо и поверить, что он добр, благороден и чистосердечен, что он никоим образом не повинен в ее поступках, что он ничего не предуказывал и не поощрял и вполне свободен от ответственности за ее деяния. В заключение она в смиренных и трогательных выражениях просила всех предстоящих молиться за нее и простить ей – просила об этом и друзей, и врагов, и тех, которые смотрят на нее без неприязни и жалеют ее в глубине своего сердца.
Едва ли хоть один из очевидцев не был растроган, даже англичане, даже судьи были заметно потрясены. И многие уста трепетали, многие глаза затуманились слезами. Кардинал Винчестерский – и тот не выдержал; он обладал государственным сердцем из камня, но его человеческое сердце было телесно.
Светский судья, которому было поручено вынести приговор и определить наказание, был столь взволнован, что забыл свою обязанность, и Жанна умерла, не выслушав приговора. Таким образом, дело, начавшееся беззаконием, кончилось так же беззаконно. Он только сказал, обращаясь к страже:
– Ведите ее.
А палачу он сказал:
– Исполняй свою обязанность.
Жанна попросила дать ей крест. Под рукой не оказалось. Но один из английских солдат, повинуясь влечению доброго сердца, сломал палку, сложил куски крестообразно и, связав их, подал Жанне это подобие креста; она взяла крест, поцеловала его и прижала к груди. Потом Изамбар де ла Пьер, отправившись в находившуюся по соседству церковь, принес ей крест освященный; она поцеловала и этот крест, и с восторгом прижала его к груди, и снова принялась целовать его и обливать слезами, славя Господа и святых.
Не переставая плакать и прижимать крест к губам, она взобралась по жестким ступеням к позорному столбу. Брат Изамбар сопровождал ее. Потом ей помогли взойти на кучу дров, окружавшую нижнюю часть столба; она стала спиной к столбу, а люди смотрели на нее, затаив дыхание. Палач тоже поднялся наверх и обмотал цепями ее стройное тело, привязав ее таким образом к позорному столбу. Потом он сошел вниз, чтобы кончить свое страшное дело. Она осталась там одна; она, у которой было столько друзей в дни ее свободы и которую все так любили.
Все, что описано до этих пор, я видел – хотя смутно, сквозь слезы. Но тут не хватило моих сил. Я оставался на своем месте, но то, что я вам расскажу, я узнал впоследствии от других очевидцев. Я продолжал сидеть, и какие-то скорбные звуки слышались мне и терзали мое сердце. Но вот что я могу вам сказать: последний образ, запечатлевшийся в моей памяти в этот пагубный час, был лик Жанны д'Арк, по-прежнему сиявший юной красотой; и этот образ, не тронутый разрушительным временем, вечно живет перед моими глазами. Теперь продолжу свой рассказ.
Ошибался тот, кто думал, что в этот торжественный час, когда все преступники каются и открывают свои сокровенные мысли, Жанна д'Арк опровергнет свои слова и признает злом свои великие деяния и укажет на сатану как на своего вдохновителя. Ее непорочному уму были чужды подобные мысли. Не о себе, не о своих горестях она думала, но о других людях и о тех бедствиях, которые падут на их голову. И, окинув скорбным взглядом красивую панораму города с его башнями и колокольнями, она сказала:
– О Руан, Руан, неужели я здесь должна умереть и ты будешь моей могилой? Ах, Руан, Руан, боюсь, что тебе придется пострадать за мою смерть!
Облако дыма на мгновение окутало ее лицо, и мимолетный ужас охватил ее, и она вскричала: «Воды! Дайте мне святой воды!» Но страх ее тотчас рассеялся и больше не терзал ее.
Она услышала треск горящих поленьев, и забота о спасении ближнего, стоявшего на опасном месте, вытеснила остальные мысли. То был брат Изамбар. Она передала ему крест и просила поднять его кверху и держать перед ее глазами, чтобы она могла черпать надежду и утешение, пока не войдет в царство вечного мира. Она заставила его отстраниться от огня. После того она успокоилась и сказала:
– Теперь держите распятие перед моими глазами, до самого конца.
Но Кошон, этот человек, не знавший стыда, постарался отравить ее предсмертные минуты. Он подошел к ней – черная, преступная душа! – и крикнул: