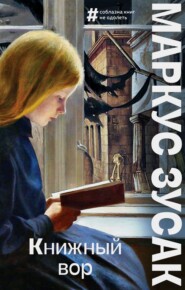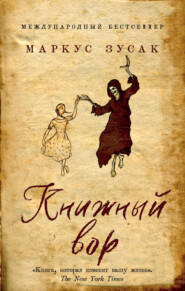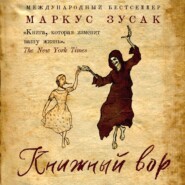По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Книжный вор
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К вящему унижению, ее отправили к младшим детишкам, которые только начали учить азбуку. И хотя Лизель была худенькой и бледной, она казалась себе великаншей среди карликов и не раз думала: хорошо бы стать такой бледной, чтобы вовсе исчезнуть.
Даже дома ей особо некому было помочь.
– Нечего у него спрашивать, – назидательно говорила Мама. – Этот свинух. – Папа сидел уставившись в окно – привычка такая. – Он бросил школу в четвертом классе.
Не поворачиваясь, Папа отвечал спокойно, однако с ехидством:
– Ага, и ее тоже не спрашивай! – Он стряхивал пепел за окно. – Она бросила школу в третьем.
Книг в доме не водилось (кроме той, спрятанной у Лизель под матрасом), и Лизель только и могла, что бормотать азбуку про себя, пока в недвусмысленных выражениях ей не прикажут умолкнуть. Весь этот бубнеж. Но домашние занятия чтением начались потом, уже после кошмара обмоченной постели. Неофициально это звалось полуночными уроками, хотя обычно начинались они в два часа пополуночи. Об этом дальше.
В середине февраля, когда Лизель исполнилось десять, ей подарили старую куклу без одной ноги и с желтыми волосами.
– Все, что мы смогли, – виновато сказал Папа.
– Что ты мелешь? Да ей за счастье и это получить, – вразумила его Мама.
Ганс разглядывал уцелевшую кукольную ногу, а Лизель пока примеряла новую форму. Десять лет означало «Гитлер-югенд». «Гитлерюгенд» означал детскую коричневую форму. Лизель как девочку записали во что-то под названием БДМ.
*** РАСШИФРОВКА ***
СОКРАЩЕНИЯ
Оно означает
Bund Deutscher Madchen – Союз немецких девушек.
Первым делом там заботились, чтобы ты как следует исполняла «Хайль Гитлер». Затем учили стройно маршировать, накладывать повязки и зашивать одежду. Кроме того водили в походы и на другие такие же занятия. Среда и суббота были установленные дни сборов – с трех до пяти.
Каждую среду и субботу Папа провожал Лизель в штаб БДМ, а через два часа забирал. Об этом они почти не разговаривали. Просто шли, взявшись за руки, и слушали свои шаги, и Папа выкуривал самокрутку-другую.
Только одно тревожило Лизель в Папе – он часто уходил. Нередко вечером он заходил в гостиную (которая заодно служила Хуберманам спальней), вытягивал из старого буфета аккордеон и протискивался через кухню к выходу.
Он шел по Химмель-штрассе, а Мама открывала окно и кричала вслед:
– Поздно не возвращайся!
– Не так громко, а? – оборачивался и кричал в ответ он.
– Свинух! Поцелуй меня в жопу! Хочу – и кричу!
Отзвуки ее брани катились за Папой по улице. Он больше не оглядывался – если только не был уверен, что жена ушла. В такие вечера, остановившись в конце улицы с футляром в руке, он оборачивался, немного не дойдя до лавки фрау Диллер на углу, и видел фигуру, сменившую Розу в окне. На миг его длинная призрачная ладонь взлетала вверх, потом он поворачивался и медленно шел дальше. В следующий раз Лизель увидит его в два часа ночи, когда он будет осторожно вытаскивать ее из страшного сна.
* * *
На маленькой кухне вечера неизменно проходили бурно. Роза Хуберман непрерывно говорила, а для нее говорить, значит – schimpfen[1 - Браниться (нем.). – Здесь и далее прим. переводчика.]. Постоянно что-то доказывала и жаловалась. Спорить вообще-то было не с кем, но Мама умело использовала любой подвернувшийся случай. У себя на кухне она могла спорить с целым миром – и почти каждый вечер спорила. После ужина и Папиного ухода Лизель с Розой обычно оставались на кухне, и Роза принималась за глажку.
Несколько раз в неделю Лизель, вернувшись из школы, отправлялась с Мамой на улицы Молькинга – по состоятельным домам, собирать вещи в стирку и разносить стираное. Кнаупт-штрассе, Хайде-штрассе. Еще пара улиц. Мама принимала и отдавала стирку с дежурной улыбкой, но лишь дверь закрывалась, Роза, уже уходя, начинала поносить этих богатеев со всеми их деньгами и бездельем.
– Совсем g’schtinkerdt, не могут себе одежду постирать, – ворчала она, хотя сама зависела от этих людей. – Этому, – обличала она герра Фогеля с Хайде-штрассе, – все деньги достались от отца. Вот и проматывает на дамочек и выпивку. Да на стирку с глажкой, конечно!
Это было что-то вроде позорной переклички.
Герр Фогель, герр и фрау Пфаффельхурфер, Хелена Шмидт, Вайнгартнеры. Все они были хоть в чем-нибудь, но виноваты.
Эрнст Фогель, по словам Розы, помимо пьянства и дорогостоящего распутства, постоянно чесал в обсиженных гнидами волосах, лизал пальцы и только потом подавал деньги.
– Их надо стирать, прежде чем нести домой, – подводила черту Роза.
Пфаффельхурферы пристально разглядывали работу.
– «Пожалуйста, на этих рубашках никаких складок! – передразнивала их Роза. – На пиджаке чтоб ни одной морщинки!» И вот стоят и все рассматривают прямо передо мной. Прямо у меня под носом! G’sindel![2 - Зд.: завонялись (нем.).] Ну и отребье!
Вайнгартнеры были, очевидно, «дурачьем с постоянно линяющей кошачьей свинюхой».
– Ты знаешь, сколько я вожусь, очищаю всю это шерсть? Она везде!
Хелена Шмидт была богатая вдова.
– Старая рухлядь – сидит там и чахнет. Ей за всю жизнь ни дня не пришлось работать.
Однако самое злое презрение Роза приберегала для дома номер 8 по Гранде-штрассе. Большого дома на высоком холме в верхней части Молькинга.
– Это вот, – показала она, когда первый раз привела туда Лизель, – дом бургомистра. Жулика этого. Жена его целый день сидит сложа руки, сквалыга, огонь развести жалеет – у них вечно холодрыга. Чокнутая она. – И Роза повторила с расстановкой: – Полностью. Чокнутая. – А у калитки махнула девочке рукой. – Иди ты.
Лизель перепугалась до смерти. На невысоком крыльце громоздилась гигантская коричневая дверь с медным молотком.
– Что?
Мама пихнула ее.
– Не чтокай мне, свинюха! Тащи!
Лизель потащила. Прошла по дорожке, взошла на крыльцо и, помедлив, постучала.
Дверь открыл банный халат.
А внутри халата оказалась женщина с испуганными глазами, волосами как пух и в позе забитого существа. Увидав Маму у калитки, она подала Лизель узел с бельем.
– Спасибо, – сказала Лизель, но безответно. Только дверь. Она закрылась.
– Видишь? – спросила Мама, когда Лизель вернулась к калитке. – Вот что мне приходится терпеть. Этих богатых гнусов, свиней ленивых…
Уже уходя с узлом в руках, Лизель оглянулась. С двери ее провожал пристальным взглядом медный молоток.
Закончив распекать людей, на которых работала, Роза Хуберман обычно переходила к своему излюбленному предмету поношения. Собственному мужу. Глядя на мешок со стиркой и на ссутулившиеся дома, она все говорила, говорила и говорила.
– Если бы твой Папа хоть на что-нибудь годился, – сообщала она Лизель каждый раз, пока они шли по Молькингу, – мне бы не пришлось этим заниматься! – И насмешливо фыркала – Маляр! И чего я вышла за этого засранца? Мне же так и говорили – родители то есть! – Их шаги хрустели по дорожке. – И что я теперь – таскаюсь по улицам и гну спину на кухне, потому что у этого свинуха вечно нет работы. Настоящей, по крайней мере. Только жалкий аккордеон и каждый вечер по этим грязным притонам!
Даже дома ей особо некому было помочь.
– Нечего у него спрашивать, – назидательно говорила Мама. – Этот свинух. – Папа сидел уставившись в окно – привычка такая. – Он бросил школу в четвертом классе.
Не поворачиваясь, Папа отвечал спокойно, однако с ехидством:
– Ага, и ее тоже не спрашивай! – Он стряхивал пепел за окно. – Она бросила школу в третьем.
Книг в доме не водилось (кроме той, спрятанной у Лизель под матрасом), и Лизель только и могла, что бормотать азбуку про себя, пока в недвусмысленных выражениях ей не прикажут умолкнуть. Весь этот бубнеж. Но домашние занятия чтением начались потом, уже после кошмара обмоченной постели. Неофициально это звалось полуночными уроками, хотя обычно начинались они в два часа пополуночи. Об этом дальше.
В середине февраля, когда Лизель исполнилось десять, ей подарили старую куклу без одной ноги и с желтыми волосами.
– Все, что мы смогли, – виновато сказал Папа.
– Что ты мелешь? Да ей за счастье и это получить, – вразумила его Мама.
Ганс разглядывал уцелевшую кукольную ногу, а Лизель пока примеряла новую форму. Десять лет означало «Гитлер-югенд». «Гитлерюгенд» означал детскую коричневую форму. Лизель как девочку записали во что-то под названием БДМ.
*** РАСШИФРОВКА ***
СОКРАЩЕНИЯ
Оно означает
Bund Deutscher Madchen – Союз немецких девушек.
Первым делом там заботились, чтобы ты как следует исполняла «Хайль Гитлер». Затем учили стройно маршировать, накладывать повязки и зашивать одежду. Кроме того водили в походы и на другие такие же занятия. Среда и суббота были установленные дни сборов – с трех до пяти.
Каждую среду и субботу Папа провожал Лизель в штаб БДМ, а через два часа забирал. Об этом они почти не разговаривали. Просто шли, взявшись за руки, и слушали свои шаги, и Папа выкуривал самокрутку-другую.
Только одно тревожило Лизель в Папе – он часто уходил. Нередко вечером он заходил в гостиную (которая заодно служила Хуберманам спальней), вытягивал из старого буфета аккордеон и протискивался через кухню к выходу.
Он шел по Химмель-штрассе, а Мама открывала окно и кричала вслед:
– Поздно не возвращайся!
– Не так громко, а? – оборачивался и кричал в ответ он.
– Свинух! Поцелуй меня в жопу! Хочу – и кричу!
Отзвуки ее брани катились за Папой по улице. Он больше не оглядывался – если только не был уверен, что жена ушла. В такие вечера, остановившись в конце улицы с футляром в руке, он оборачивался, немного не дойдя до лавки фрау Диллер на углу, и видел фигуру, сменившую Розу в окне. На миг его длинная призрачная ладонь взлетала вверх, потом он поворачивался и медленно шел дальше. В следующий раз Лизель увидит его в два часа ночи, когда он будет осторожно вытаскивать ее из страшного сна.
* * *
На маленькой кухне вечера неизменно проходили бурно. Роза Хуберман непрерывно говорила, а для нее говорить, значит – schimpfen[1 - Браниться (нем.). – Здесь и далее прим. переводчика.]. Постоянно что-то доказывала и жаловалась. Спорить вообще-то было не с кем, но Мама умело использовала любой подвернувшийся случай. У себя на кухне она могла спорить с целым миром – и почти каждый вечер спорила. После ужина и Папиного ухода Лизель с Розой обычно оставались на кухне, и Роза принималась за глажку.
Несколько раз в неделю Лизель, вернувшись из школы, отправлялась с Мамой на улицы Молькинга – по состоятельным домам, собирать вещи в стирку и разносить стираное. Кнаупт-штрассе, Хайде-штрассе. Еще пара улиц. Мама принимала и отдавала стирку с дежурной улыбкой, но лишь дверь закрывалась, Роза, уже уходя, начинала поносить этих богатеев со всеми их деньгами и бездельем.
– Совсем g’schtinkerdt, не могут себе одежду постирать, – ворчала она, хотя сама зависела от этих людей. – Этому, – обличала она герра Фогеля с Хайде-штрассе, – все деньги достались от отца. Вот и проматывает на дамочек и выпивку. Да на стирку с глажкой, конечно!
Это было что-то вроде позорной переклички.
Герр Фогель, герр и фрау Пфаффельхурфер, Хелена Шмидт, Вайнгартнеры. Все они были хоть в чем-нибудь, но виноваты.
Эрнст Фогель, по словам Розы, помимо пьянства и дорогостоящего распутства, постоянно чесал в обсиженных гнидами волосах, лизал пальцы и только потом подавал деньги.
– Их надо стирать, прежде чем нести домой, – подводила черту Роза.
Пфаффельхурферы пристально разглядывали работу.
– «Пожалуйста, на этих рубашках никаких складок! – передразнивала их Роза. – На пиджаке чтоб ни одной морщинки!» И вот стоят и все рассматривают прямо передо мной. Прямо у меня под носом! G’sindel![2 - Зд.: завонялись (нем.).] Ну и отребье!
Вайнгартнеры были, очевидно, «дурачьем с постоянно линяющей кошачьей свинюхой».
– Ты знаешь, сколько я вожусь, очищаю всю это шерсть? Она везде!
Хелена Шмидт была богатая вдова.
– Старая рухлядь – сидит там и чахнет. Ей за всю жизнь ни дня не пришлось работать.
Однако самое злое презрение Роза приберегала для дома номер 8 по Гранде-штрассе. Большого дома на высоком холме в верхней части Молькинга.
– Это вот, – показала она, когда первый раз привела туда Лизель, – дом бургомистра. Жулика этого. Жена его целый день сидит сложа руки, сквалыга, огонь развести жалеет – у них вечно холодрыга. Чокнутая она. – И Роза повторила с расстановкой: – Полностью. Чокнутая. – А у калитки махнула девочке рукой. – Иди ты.
Лизель перепугалась до смерти. На невысоком крыльце громоздилась гигантская коричневая дверь с медным молотком.
– Что?
Мама пихнула ее.
– Не чтокай мне, свинюха! Тащи!
Лизель потащила. Прошла по дорожке, взошла на крыльцо и, помедлив, постучала.
Дверь открыл банный халат.
А внутри халата оказалась женщина с испуганными глазами, волосами как пух и в позе забитого существа. Увидав Маму у калитки, она подала Лизель узел с бельем.
– Спасибо, – сказала Лизель, но безответно. Только дверь. Она закрылась.
– Видишь? – спросила Мама, когда Лизель вернулась к калитке. – Вот что мне приходится терпеть. Этих богатых гнусов, свиней ленивых…
Уже уходя с узлом в руках, Лизель оглянулась. С двери ее провожал пристальным взглядом медный молоток.
Закончив распекать людей, на которых работала, Роза Хуберман обычно переходила к своему излюбленному предмету поношения. Собственному мужу. Глядя на мешок со стиркой и на ссутулившиеся дома, она все говорила, говорила и говорила.
– Если бы твой Папа хоть на что-нибудь годился, – сообщала она Лизель каждый раз, пока они шли по Молькингу, – мне бы не пришлось этим заниматься! – И насмешливо фыркала – Маляр! И чего я вышла за этого засранца? Мне же так и говорили – родители то есть! – Их шаги хрустели по дорожке. – И что я теперь – таскаюсь по улицам и гну спину на кухне, потому что у этого свинуха вечно нет работы. Настоящей, по крайней мере. Только жалкий аккордеон и каждый вечер по этим грязным притонам!