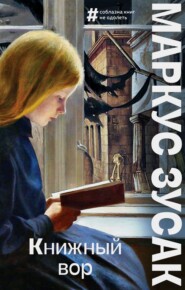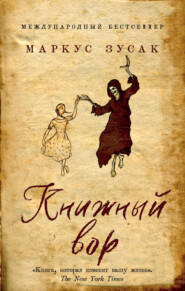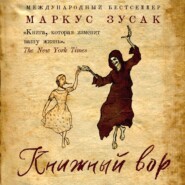По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Книжный вор
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
*** НАСТАВЛЕНИЕ МОГИЛЬЩИКУ ***
Двенадцатишаговое руководство по успешному рытью могил.
Издано Баварской ассоциацией кладбищ
Первая добыча книжной воришки – начало впечатляющей карьеры.
ПРЕВРАЩЕНИЕ В СВИНЮХУ
Да, впечатляющая карьера.
Впрочем, спешу признать, что между первой и второй украденной книгой был немалый разрыв. Еще одно следует упомянуть – первая книга украдена у снега, вторая – у огня. И не умолчим о том, что некоторые книги ей дарили. Всего у нее было четырнадцать книг, но своей историей она считала главным образом десять. Из этих десяти шесть было краденых, одна возникла на кухонном столе, две сделал для нее потайной еврей, одну принес тихий, одетый в желтое вечер.
Решив записать свою историю, она задалась вопросом, в какой момент книги и слова стали не просто что-то значить, а значить все. Не в тот ли миг, когда она впервые увидела комнату, где книг были полки за полками? Или когда на Химмель-штрассе появился Макс Ванденбург и принес в горстях многие беды и «Майн кампф» Гитлера? Или виновато чтение в бомбоубежищах? Последняя прогулка в Дахау? Или «Отрясательница слов»? Может, точного ответа, где и когда это началось, так и не будет. Во всяком случае, я не стану забегать вперед. Прежде чем мы доберемся до какого-нибудь ответа, нам нужно приобщиться к первым дням Лизель Мемингер на Химмель-штрассе и к искусству свинюшества.
Когда она появилась, с ее ладоней еще не сошли снежные укусы, а с пальцев – кровавый иней. Все в ней было какое-то недокормленное. Проволочные ножки. Руки как вешалки. На улыбку она была не скора, но если та все же появлялась, была заморенная.
Волосы у нее были сорта довольно близкого к немецкому белокурому, а вот глаза – довольно опасные. Темно-карие. В те времена в Германии мало кто хотел бы иметь карие глаза. Может, они достались Лизель от отца, но знать наверное она не могла, ведь отца Лизель не помнила. Об отце она хорошо помнила только одно. Ярлык, которого не могла понять.
*** СТРАННОЕ СЛОВО ***
Коммунист
Она не раз слышала его за последние несколько лет.
«Коммунист».
Пансионы, набитые людьми, комнаты, полные вопросов. И это слово. Это странное слово всегда было где-то поблизости, стояло в углу, глядело из сумрака. Носило пиджаки, мундиры. Куда бы ни поехали они с матерью, слово оказывалось там, едва разговор заходил об отце. Девочка чуяла его и знала его вкус. Не могла только разобрать по буквам или понять. А когда спросила у матери, что оно значит, та ответила, что это неважно, ни к чему ломать голову над такими вещами. В одном пансионе была женщина здоровее прочих, она пробовала учить детей писать, чертя углем на стене. Лизель так и подмывало спросить ее, что значит слово, но до этого так и не дошло. Ту женщину однажды увели на допрос. Она не вернулась.
Когда Лизель попала в Молькинг, она все-таки догадывалась, что ее спасают, но это не утешало. Если мама любит ее, зачем бросила на чужом крыльце? Зачем? Зачем?
Зачем?
И то, что ответ был ей известен – пусть на самом простом уровне, – казалось, не имело значения. Мать все время болела, а денег на поправку никогда не находилось. Это Лизель знала. Но отсюда не следовало, что она должна с этим мириться. Сколько бы ни говорили ей, что ее любят, Лизель не верила, что бросить ее – доказательство любви. Ничто не меняло того факта, что она – потерянный исхудавший ребенок, опять в каком-то чужом месте, опять с чужими людьми. Одна.
Хуберманы жили в одном из домиков-коробок на Химмель-штрассе. Пара комнат, кухня и общая с соседями уборная во дворе. Плоская крыша и неглубокий подвал для припасов. Считалось, что подвал – не достаточной глубины. В 1939?м беда невелика. Позже, в 42?м и 43?м – уже проблема. Когда начались воздушные налеты, Хуберманам приходилось бежать по улице до нормального укрытия.
Поначалу самым сильным ударом была ругань. Такая неистовая и такая обильная. Каждое второе слово было или Saumensch, или Saukerl, или Arschloch. Для людей, незнакомых с этими словами, надо объяснить. Sau, ясное дело, означает свинью. В случае Saumensch оно служит для того, чтобы уязвить, выбранить или просто унизить женщину. Saukerl (произносится «заукэрл») – это для мужчин. Arschloch можно точно перевести словом «засранец». Но это слово не имеет половой принадлежности. Оно просто есть.
– Saumensch, du dreckiges! – орала приемная мать в тот первый вечер, когда Лизель отказалась принимать ванну. – Грязная свинья! Почему не раздеваешься?
Она здорово умела злобствовать. Вообще-то можно сказать, что лицо Розы Хуберман украшала непроходящая злоба. Именно от этого появлялись морщины в картонной ткани ее физиономии.
Лизель, разумеется, уже купалась – в тревоге. Никакими судьбами она не собиралась ни в какую ванну – да и ни в какую постель, если уж на то пошло. Она забилась в угол тесной, как чулан, умывальни, цепляясь за несуществующие ручки стен в поисках хоть какой-то опоры. Но не было ничего, кроме сухой краски, сбивчивого сопения и потока Розиной брани.
– Отстань от нее. – В потасовку вмешался Ганс Хуберман. Его мягкий голос пробрался к ним, будто протиснувшись сквозь толпу. – Дай я.
Он подошел ближе и сел на пол, привалившись к стене. Кафель был холодным и недобрым.
– Умеешь сворачивать самокрутки? – спросил он Лизель – и следующий час или около того они сидели в поднимавшемся омуте потемок, забавляясь листками папиросной бумаги и табаком, который скуривал Ганс Хуберман.
Прошел час, и Лизель уже могла довольно прилично свернуть самокрутку. Купание так и не случилось.
*** НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ***
ГАНСЕ ХУБЕРМАНЕ Любит курить.
Главное удовольствие от курения для него
состоит в сворачивании самокруток.
По профессии он маляр, играет
на аккордеоне. Это бывает кстати, особенно зимой,
когда можно кое-что заработать, играя в пивнушках
Молькинга вроде «Кноллера».
На одной мировой войне он уже надул меня,
но позже его отправят на вторую (такая извращенная
награда), где он опять как-то сумеет со мной разминуться.
Для большинства людей Ганс Хуберман был едва заметен. Не-особенный человек. Разумеется, маляр он был отличный. Музыкальные способности – выше среднего. И все же как-то – уверен, вам встречались такие люди – он умел всегда сливаться с фоном, даже когда стоял первым в очереди. Всегда был вон там. Не видный. Не важный и не особенно ценный.
Как вы можете представить, самым огорчительным в такой наружности было ее полное, скажем так, несоответствие. Несомненно, в Гансе Хубермане имелась ценность, и для Лизель Мемингер это не прошло незамеченным. (Человеческое дитя иногда гораздо проницательнее до одури занудных взрослых.) Лизель обнаружила это сразу.
Как он держался.
Это его спокойствие.
Когда Ганс Хуберман в тот вечер зажег свет в маленькой черствой умывальне, Лизель обратила внимание на странные глаза своего приемного отца. Они были сделаны из доброты и серебра. Будто бы мягкого серебра, расплавленного. Увидев эти глаза, Лизель сразу поняла, что Ганс Хуберман многого стоит.
*** НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ***
РОЗЕ ХУБЕРМАН
В ней пять футов и один дюйм росту,
она собирает каштановые с сединой пряди
упругих волос в узел.
В дополнение к Гансовым заработкам она
стирает и гладит для пяти зажиточных
Двенадцатишаговое руководство по успешному рытью могил.
Издано Баварской ассоциацией кладбищ
Первая добыча книжной воришки – начало впечатляющей карьеры.
ПРЕВРАЩЕНИЕ В СВИНЮХУ
Да, впечатляющая карьера.
Впрочем, спешу признать, что между первой и второй украденной книгой был немалый разрыв. Еще одно следует упомянуть – первая книга украдена у снега, вторая – у огня. И не умолчим о том, что некоторые книги ей дарили. Всего у нее было четырнадцать книг, но своей историей она считала главным образом десять. Из этих десяти шесть было краденых, одна возникла на кухонном столе, две сделал для нее потайной еврей, одну принес тихий, одетый в желтое вечер.
Решив записать свою историю, она задалась вопросом, в какой момент книги и слова стали не просто что-то значить, а значить все. Не в тот ли миг, когда она впервые увидела комнату, где книг были полки за полками? Или когда на Химмель-штрассе появился Макс Ванденбург и принес в горстях многие беды и «Майн кампф» Гитлера? Или виновато чтение в бомбоубежищах? Последняя прогулка в Дахау? Или «Отрясательница слов»? Может, точного ответа, где и когда это началось, так и не будет. Во всяком случае, я не стану забегать вперед. Прежде чем мы доберемся до какого-нибудь ответа, нам нужно приобщиться к первым дням Лизель Мемингер на Химмель-штрассе и к искусству свинюшества.
Когда она появилась, с ее ладоней еще не сошли снежные укусы, а с пальцев – кровавый иней. Все в ней было какое-то недокормленное. Проволочные ножки. Руки как вешалки. На улыбку она была не скора, но если та все же появлялась, была заморенная.
Волосы у нее были сорта довольно близкого к немецкому белокурому, а вот глаза – довольно опасные. Темно-карие. В те времена в Германии мало кто хотел бы иметь карие глаза. Может, они достались Лизель от отца, но знать наверное она не могла, ведь отца Лизель не помнила. Об отце она хорошо помнила только одно. Ярлык, которого не могла понять.
*** СТРАННОЕ СЛОВО ***
Коммунист
Она не раз слышала его за последние несколько лет.
«Коммунист».
Пансионы, набитые людьми, комнаты, полные вопросов. И это слово. Это странное слово всегда было где-то поблизости, стояло в углу, глядело из сумрака. Носило пиджаки, мундиры. Куда бы ни поехали они с матерью, слово оказывалось там, едва разговор заходил об отце. Девочка чуяла его и знала его вкус. Не могла только разобрать по буквам или понять. А когда спросила у матери, что оно значит, та ответила, что это неважно, ни к чему ломать голову над такими вещами. В одном пансионе была женщина здоровее прочих, она пробовала учить детей писать, чертя углем на стене. Лизель так и подмывало спросить ее, что значит слово, но до этого так и не дошло. Ту женщину однажды увели на допрос. Она не вернулась.
Когда Лизель попала в Молькинг, она все-таки догадывалась, что ее спасают, но это не утешало. Если мама любит ее, зачем бросила на чужом крыльце? Зачем? Зачем?
Зачем?
И то, что ответ был ей известен – пусть на самом простом уровне, – казалось, не имело значения. Мать все время болела, а денег на поправку никогда не находилось. Это Лизель знала. Но отсюда не следовало, что она должна с этим мириться. Сколько бы ни говорили ей, что ее любят, Лизель не верила, что бросить ее – доказательство любви. Ничто не меняло того факта, что она – потерянный исхудавший ребенок, опять в каком-то чужом месте, опять с чужими людьми. Одна.
Хуберманы жили в одном из домиков-коробок на Химмель-штрассе. Пара комнат, кухня и общая с соседями уборная во дворе. Плоская крыша и неглубокий подвал для припасов. Считалось, что подвал – не достаточной глубины. В 1939?м беда невелика. Позже, в 42?м и 43?м – уже проблема. Когда начались воздушные налеты, Хуберманам приходилось бежать по улице до нормального укрытия.
Поначалу самым сильным ударом была ругань. Такая неистовая и такая обильная. Каждое второе слово было или Saumensch, или Saukerl, или Arschloch. Для людей, незнакомых с этими словами, надо объяснить. Sau, ясное дело, означает свинью. В случае Saumensch оно служит для того, чтобы уязвить, выбранить или просто унизить женщину. Saukerl (произносится «заукэрл») – это для мужчин. Arschloch можно точно перевести словом «засранец». Но это слово не имеет половой принадлежности. Оно просто есть.
– Saumensch, du dreckiges! – орала приемная мать в тот первый вечер, когда Лизель отказалась принимать ванну. – Грязная свинья! Почему не раздеваешься?
Она здорово умела злобствовать. Вообще-то можно сказать, что лицо Розы Хуберман украшала непроходящая злоба. Именно от этого появлялись морщины в картонной ткани ее физиономии.
Лизель, разумеется, уже купалась – в тревоге. Никакими судьбами она не собиралась ни в какую ванну – да и ни в какую постель, если уж на то пошло. Она забилась в угол тесной, как чулан, умывальни, цепляясь за несуществующие ручки стен в поисках хоть какой-то опоры. Но не было ничего, кроме сухой краски, сбивчивого сопения и потока Розиной брани.
– Отстань от нее. – В потасовку вмешался Ганс Хуберман. Его мягкий голос пробрался к ним, будто протиснувшись сквозь толпу. – Дай я.
Он подошел ближе и сел на пол, привалившись к стене. Кафель был холодным и недобрым.
– Умеешь сворачивать самокрутки? – спросил он Лизель – и следующий час или около того они сидели в поднимавшемся омуте потемок, забавляясь листками папиросной бумаги и табаком, который скуривал Ганс Хуберман.
Прошел час, и Лизель уже могла довольно прилично свернуть самокрутку. Купание так и не случилось.
*** НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ***
ГАНСЕ ХУБЕРМАНЕ Любит курить.
Главное удовольствие от курения для него
состоит в сворачивании самокруток.
По профессии он маляр, играет
на аккордеоне. Это бывает кстати, особенно зимой,
когда можно кое-что заработать, играя в пивнушках
Молькинга вроде «Кноллера».
На одной мировой войне он уже надул меня,
но позже его отправят на вторую (такая извращенная
награда), где он опять как-то сумеет со мной разминуться.
Для большинства людей Ганс Хуберман был едва заметен. Не-особенный человек. Разумеется, маляр он был отличный. Музыкальные способности – выше среднего. И все же как-то – уверен, вам встречались такие люди – он умел всегда сливаться с фоном, даже когда стоял первым в очереди. Всегда был вон там. Не видный. Не важный и не особенно ценный.
Как вы можете представить, самым огорчительным в такой наружности было ее полное, скажем так, несоответствие. Несомненно, в Гансе Хубермане имелась ценность, и для Лизель Мемингер это не прошло незамеченным. (Человеческое дитя иногда гораздо проницательнее до одури занудных взрослых.) Лизель обнаружила это сразу.
Как он держался.
Это его спокойствие.
Когда Ганс Хуберман в тот вечер зажег свет в маленькой черствой умывальне, Лизель обратила внимание на странные глаза своего приемного отца. Они были сделаны из доброты и серебра. Будто бы мягкого серебра, расплавленного. Увидев эти глаза, Лизель сразу поняла, что Ганс Хуберман многого стоит.
*** НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ***
РОЗЕ ХУБЕРМАН
В ней пять футов и один дюйм росту,
она собирает каштановые с сединой пряди
упругих волос в узел.
В дополнение к Гансовым заработкам она
стирает и гладит для пяти зажиточных