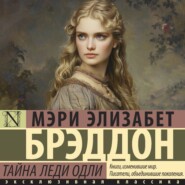По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тайна леди Одли
Автор
Серия
Год написания книги
1862
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как вы думаете, о чем рассказал мне мистер Мелвилл, когда заезжал сюда вчера, Алисия? – спросил вскоре сэр Майкл.
– Понятия не имею, – довольно равнодушно ответила Алисия. – Возможно, он сказал, что скоро будет новая война, ей-богу, сэр, или, быть может, нам нужен новый министр, ей-богу, сэр, потому что все эти парни попали в передрягу, влипли, сэр, или что эти парни преобразовывают это и сокращают то, реформируют армию, пока, ей-богу, сэр, у нас совсем не будет армии – только банда мальчишек, сэр, напичканных по уши всяким школьным вздором и одетых в куртки из скорлупы и коленкоровые шлемы. Да, сэр, в этот самый день они сражаются в своих коленкоровых шлемах, сэр.
– Вы дерзкая девчонка, мисс, – ответил баронет. – Майор Мелвилл не говорил мне ничего подобного; он лишь сказал, что твой преданный поклонник, некий сэр Гарри Тауэрс, покинул свое имение и конюшни в Хертфордшире и уехал на год в Европу.
Мисс Одли неожиданно вспыхнула при упоминании о своем старом обожателе, но очень быстро оправилась.
– Так он уехал в Европу, не так ли? – безразлично промолвила она. – Он говорил мне, что собирается туда, если… не получится так, как он хочет. Бедняга! Он милый, славный, глупый парень и в двадцать раз лучше, чем этот странствующий остроумный морозильник мистер Роберт Одли.
– Мне бы хотелось, Алисия, чтобы ты так не увлекалась высмеиванием Боба, – мрачно заметил сэр Майкл. – Боб хороший парень, и я люблю его, как собственного сына, и… и… я очень беспокоюсь о нем в последнее время. Он очень изменился за последние несколько дней, вбил себе в голову всякие нелепые идеи, и госпожа встревожила меня. Она думает…
Леди Одли перебила мужа, мрачно покачав головой.
– Лучше пока не говорить об этом, – сказала она. – Алисия знает, что я думаю.
– Да, – подхватила мисс Одли, – госпожа думает, что Боб сошел с ума, но я его прекрасно знаю. Он совсем не такой человек, чтобы сходить с ума. Каким образом в этом стоячем болоте рассудка может подняться буря? Он может бродить, как лунатик, остаток всей жизни в безмятежном состоянии идиотизма, не вполне понимая, кто он и куда идет, и что он делает, но он никогда не сойдет с ума.
Сэр Майкл ничего не ответил. Его слишком обеспокоил разговор с госпожой накануне вечером, и с тех пор он молча размышлял об этом.
Его жена, женщина, которую он больше всех любил и которой больше всех доверял, сказала ему, что убеждена в безумии его племянника. Напрасно он пытался прийти к выводу, которого горячо желал; напрасно пытался думать, что госпожа была введена в заблуждение собственными фантазиями и не имела оснований для своих утверждений. И вдруг его осенило, что тогда напрашивался еще худший вывод – это значило перенести ужасное подозрение с племянника на жену. По-видимому, она была действительно убеждена в безумии Роберта. Представить, что она не права, значило предположить слабость ее рассудка. Чем больше он думал об этом, тем больше его это тревожило и приводило в недоумение. Конечно, молодой человек всегда был немного эксцентричен. Он был разумен, довольно умен, честен и благороден, хотя, быть может, и немного небрежен в выполнении некоторых второстепенных общественных обязанностей; но существовали легкие различия, которые не так легко определить, отделявшие его от других молодых людей его возраста и положения. Опять же, он действительно очень изменился со времени исчезновения Джорджа Толбойса. Он стал угрюмым и задумчивым, грустным и рассеянным. Он сторонился общества, часами сидел не разговаривая, временами говорил загадками, непривычно волновался при обсуждении вопросов, явно далеких от его жизни и интересов. Было и кое-что другое, говорившее в пользу доводов госпожи против несчастного молодого человека. Он воспитывался вместе со своей кузиной Алисией – своей хорошенькой добродушной кузиной, чей интерес к нему, даже привязанность, указывали на то, что она наиболее подходящая для него невеста. Более того, девушка показала ему в невинном простодушии своей открытой натуры, что она к нему неравнодушна; и все же, несмотря на это, он держался отстраненно и позволял другим молодым людям просить ее руки и получать отказы.
Ведь любовь настолько неуловима, такое неопределенное метафизическое чудо, что ее силу, которую жестоко чувствует сам страдающий, никогда вполне не понимают те, кто взирает на его мучения со стороны и удивляется, почему он так плохо переносит обычную лихорадку. Сэр Майкл находил странным и неестественным, что Роберт не влюбляется в такую хорошенькую и добродушную девушку, как Алисия. Этот баронет, дожив до шестидесяти лет, первый раз в жизни встретил женщину, которая заставила биться его сердце, и удивлялся, почему Роберт не заражается лихорадкой, едва вдохнув эти заразные бациллы. Он забыл, что есть мужчины, остающиеся невредимыми среди легионов хорошеньких и благородных женщин, но которые в конце концов становятся жертвой грубой мегеры, знающей секрет любовного зелья, отравляющего и очаровывающего их. Он забыл, сколько на свете Джеков, идущих по жизни, так и не встретив свою Джилл, предназначенную им судьбой, и возможно, умирают старыми холостяками в то время, как бедная Джилл чахнет где-то рядом в старых девах. Он забыл, что любовь – это безумие, бедствие, горячка, обман, западня является также и тайной, которую не дано понять никому, кроме того единственного страдальца, терзаемого этой пыткой. Джоунс, безумно влюбленный в мисс Браун и лежащий ночи напролет без сна до тех пор, пока не начинает ненавидеть свою мягкую подушку и комкать простыни, пока они не превратятся в две скрученные веревки, этот самый Джоунс, считающий площадь Рассел волшебным местом лишь потому, что его божество живет там, и полагающий, что деревья в этих местах зеленее, а небо более голубое, и ощущающий внезапную острую боль, перемешанную с надеждой, радостью, ожиданием и ужасом, покидая Гилфорд-стрит и спускаясь с высот Ислингтона в эти священные окрестности, этот самый Джоунс жесток и безжалостен к Смиту, обожающему мисс Робинсон, и не может представить, что же влюбленный до безумия парень нашел в этой девушке. Таков был и сэр Майкл Одли. Он смотрел на своего племянника, как на представителя большого класса молодых людей, а на свою дочь – как на представительницу такого же обширного класса девушек, и не мог понять, почему эти два представителя не могут составить достойную пару. Он не принимал во внимание все те бесконечно малые различия в человеческой натуре, которые превращают здоровую пищу для одного человека в смертельный яд для другого. Как трудно иной раз поверить, что кому-то не нравится вкусное блюдо. Если за обеденным столом какой-нибудь смиренного вида гость отказывается от семги или от огурцов в феврале, мы считаем его бедным родственником, чьи инстинкты предостерегают его от этих дорогих блюд.
Увы, моя милая Алисия, кузен не любил вас! Он восхищался вашим розовым английским личиком, чувствовал к вам нежную привязанность, которая, быть может, могла перерасти в нечто достаточно теплое для брака, этого ежедневного рутинного образчика союза, не требующего страстной любви; если бы не неожиданное препятствие, возникшее в Дорсетшире. Да, растущая привязанность Роберта Одли к своей кузине, этот слабый росток внезапно увял в тот ненастный февральский день, когда он стоял под елями, беседуя с Кларой Толбойс. С того дня молодой человек испытывал неприятное чувство при мысли об Алисии. Она каким-то образом стесняла его свободу мыслей, его преследовал страх, что он негласно связан с ней обещанием, что она имеет на него какие-то притязания, запрещающие ему даже думать о другой женщине. Я думаю, именно образ мисс Алисии вызывал у молодого адвоката взрывы раздражительной ярости против женского пола, которым он был подвержен одно время. Он был настолько честен, что скорее принес бы себя в жертву Алисии перед алтарем, чем причинил ей хоть малейшее зло, хотя, возможно, и обеспечил бы этим свое собственное счастье.
«Если бедная малышка любит меня, – размышлял он, – и если она думает, что я люблю ее, и решила так из-за какого-нибудь моего слова или поступка, я обязан выполнить свое молчаливое обещание, которое мог нечаянно дать ей. Я подумывал… собирался сделать ей предложение, когда раскроется эта ужасная тайна Джорджа Толбойса и все уладится, но теперь…»
В этом месте его мысли обычно уносились туда, под ели в Дорсетшире, к сестре его пропавшего друга, и это было весьма утомительное путешествие, возвращавшее его к тому месту, где он сбился с пути.
«Бедная маленькая девочка! – Его мысли вновь вернулись к Алисии. – Какая она милая, что любит меня, и как я должен быть благодарен ей за такую нежность. Сколько мужчин сочли бы это великодушное любящее сердечко величайшим даром на земле. Взять хотя бы сэра Гарри Тауэрса, ввергнутого в отчаяние ее отказом. Он отдал бы мне половину своего состояния, все свое состояние, отдал бы в два раза больше, если бы имел, лишь бы оказаться на моем месте. Почему я не могу полюбить ее? Ведь я знаю, какая она милая, чистая, добрая и правдивая, почему же я не люблю ее? Ее образ никогда не преследует меня, только укоряет. Я никогда не вижу ее во сне. Никогда не просыпаюсь внезапно в глубине ночи от сияния ее глаз, устремленных на меня, и ее теплого дыхания на моей щеке или от пожатия ее мягких пальчиков. Нет, я не люблю ее, я не могу влюбиться в нее».
Его возмущала и злила собственная неблагодарность. Он пытался заставить себя испытать страстную привязанность к своей кузине, но позорно провалился; и чем больше он старался думать об Алисии, тем больше думал о Кларе Толбойс. Я говорю сейчас о его чувствах за тот отрезок времени, что истек между его возвращением из Дорсетшира и визитом в Грейндж-Хит.
После завтрака в то дождливое утро сэр Майкл сидел в библиотеке у камина, читая газеты и просматривая письма. Алисия закрылась в своей комнате, штудируя третий том утомительно-длинного романа. Леди Одли заперла дверь восьмиугольной прихожей и бродила по анфиладе комнат из спальни в будуар и обратно в течение всего этого утомительного утра.
Она заперла дверь, чтобы ее не застали врасплох и она успела встретить их испытующие взгляды. Ее лицо, казалось, побледнело еще больше. Аккуратный ящичек с лекарствами стоял открытым на туалетном столике, повсюду были разбросаны маленькие закупоренные бутылочки с лавандой, нюхательной солью и хлороформом. Госпожа остановилась и стала рассеянно вынимать оставшиеся бутылочки, пока не натолкнулась на одну, заполненную тягучей темной жидкостью с этикеткой «Опиум (яд)».
Она повертела ее в руках, держа ближе к свету, и даже вынула пробку и понюхала тошнотворную жидкость. Но вдруг с содроганием отодвинула ее.
– Если бы я могла! – прошептала она. – Если бы я только могла сделать это! И все же к чему это… теперь?
Она сжала свои маленькие кулачки, произнося эти последние слова, и подошла к окну гардеробной, выходившему на увитую плющом арку, через которую должен был проходить любой, кто направлялся в Корт из Маунт-Стэннинга.
В саду были маленькие ворота, ведущие в луга за Кортом, но другой дороги из Маунт-Стэннинга или Брентвуда не было, кроме этого главного входа.
Единственная стрелка часов на арке находилась между часом и двумя, когда госпожа взглянула на них.
– Как медленно тянется время, – устало промолвила она, – как медленно, как медленно! Интересно, состарюсь ли я точно также, когда каждая минута моей жизни кажется часом?.
Она постояла несколько минут, наблюдая за аркой, но никто не проходил под ней; она в нетерпении отвернулась от окна и возобновила свое утомительное хождение по комнате.
Каков бы ни был пожар, чей отсвет пламенел накануне в черном небе, вести о нем еще не достигли Одли-Корт. День был такой сырой и ветреный, что даже самый заядлый сплетник не решится выйти в такую погоду. День был не рыночный, на дороге между Брентвудом и Челмсфордом почти не было повозок, поэтому известия о пожаре, вспыхнувшем глубокой ночью, еще не достигли деревни Одли, а оттуда и Корта.
Служанка с розовыми лентами подошла к двери прихожей, чтобы позвать хозяйку на ланч, но леди Одли только немного приоткрыла дверь и сказала, что не желает обедать.
– У меня ужасно болит голова, Мартина, – пожаловалась она. – Я пойду прилягу до обеда. Можешь прийти в пять, чтобы помочь мне переодеться.
Леди Одли сказала так с намерением одеться в четыре и обойтись, таким образом, без услуг служанки. Среди всех шпионов служанка госпожи имеет самые большие преимущества. Именно она омыла глаза леди Терезы одеколоном после ссоры ее милости с полковником, именно она подавала нюхательные соли мисс Фанни, когда граф Бейдесерт оскорбил ее. У нее есть сотня способов раскрыть секреты своей хозяйки. Уже по тому, как раздражается ее хозяйка от самого мягкого прикосновения расчески, она знает, какие тайные пытки терзают ей грудь. Хорошо воспитанная служанка знает, как истолковать самые непонятные симптомы душевных недугов, беспокоящих ее хозяйку; она знает, когда кожа цвета слоновой кости покупается за деньги, а жемчужные зубы – всего лишь вещество из-за границы, установленное дантистом; когда блестящие косы – скорее реликвия мертвых, чем собственность живых, ей также известны и другие, более священные секреты, чем эти. Она знает, когда милая улыбка более фальшива, чем эмаль мадам Левисон, когда слова, слетающие из-за этих жемчужных подделок, более притворны, чем губы, помогающие издавать их. Когда прекрасная фея бальной залы возвращается в свою гардеробную после ночного шумного веселья, сбрасывает свой просторный бурнус и откидывает в сторону увядший букет, роняет маску, и словно еще одна Золушка теряет хрустальную туфельку, по сиянию которой ее узнавали, и опять надевает свои лохмотья, – служанка госпожи всегда рядом и видит эти превращения. Камердинер, получающий жалованье от предсказателя Каразина, должно быть, видел иногда своего господина без маски и смеялся в рукав над глупостью поклонников этого урода.
Леди Одли не делала служанку поверенной своих секретов и в этот день, а также во все последующие желала остаться одна.
Она все-таки прилегла, скорее устало бросилась на роскошный диван в своей гардеробной, и, зарывшись лицом в подушки, попыталась уснуть. Уснуть! Она почти забыла, что такое сон; казалось, прошло так много времени, с тех пор как она спала в последний раз. Возможно, около сорока восьми часов, но как давно! Ее усталость предыдущей ночью, неестественное возбуждение вконец изнурили ее. Она все-таки уснула, провалилась в тяжелое забытье, похожее на оцепенение. Прежде чем лечь, она приняла несколько капель опиума.
Часы на каминной полке показывали без четверти четыре, когда она внезапно проснулась и вскочила с каплями холодного пота на лбу. Ей снилось, что все домочадцы столпились у ее дверей и шумно кричали о пожаре, случившемся ночью.
В комнате царило безмолвие, лишь ветви плюща бились об оконное стекло; время от времени было слышно, как падали кусочки золы и раздавалось тиканье часов.
«Наверное, мне всегда будут сниться подобные сны, – подумала госпожа, – пока их ужас не убьет меня!»
Дождь прекратился, и в окна засияло холодное весеннее солнце. Леди Одли быстро, но тщательно оделась. Я не могу сказать, что даже в момент сильного горя она все еще сохраняла гордость в своей красоте. Это было не так; она смотрела на этот природный дар как на оружие и чувствовала, что теперь вдвойне нуждается в нем. Люси оделась в самые прекрасные шелка, просторную одежду, отливающую серебром, словно сотканную из лунных лучей. Она распустила волосы, и они опустились пушистым сияющим золотым дождем на ее плечи, и, накинув на плечи белый плащ, спустилась по лестнице в вестибюль.
Она открыла дверь библиотеки и заглянула внутрь. Сэр Майкл Одли спал в кресле. Когда госпожа мягко закрывала дверь, из своей комнаты спустилась Алисия. Башенная дверца была открыта, на мокрой траве лужайки сияло солнце. Гравийные дорожки почти высохли, поскольку дождь прекратился почти два часа назад.
– Ты не прогуляешься со мной? – спросила леди Одли, когда ее падчерица подошла поближе. Вооруженный нейтралитет между двумя женщинами допускал такую любезность.
– Да, госпожа, – довольно равнодушно ответила Алисия. – Я все утро прозевала над этим глупым романом, и свежий воздух пойдет мне на пользу.
Помоги Бог тому писателю, чей роман столь внимательно читала мисс Одли, если у него не было лучшего критика, чем эта юная леди. Она перелистывала страницу за страницей, не сознавая, что читает; она дюжину раз отбрасывала его в сторону, чтобы подойти к окну и посмотреть, – не идет ли гость, которого она так ждала.
Леди Одли вышла через маленькую дверцу на ровную гравийную дорожку, по которой экипажи подъезжали к дому. Она все еще была бледна, но яркое платье и пушистые золотистые волосы отвлекали внимание от ее мертвенно-бледного лица. Всякое душевное страдание ассоциируется в нашем сознании со свободой, небрежной одеждой, растрепанными волосами и внешностью, во всем противоположной той, что была у госпожи. Зачем она вышла под холодное мартовское солнце бродить по дорожкам со своей падчерицей, которую ненавидела? Она вышла, потому что ею владело ужасное беспокойство, не позволявшее оставаться в доме, ожидая известий, которые наверняка скоро будут. Вначале она хотела отвратить их, всей душой желала помешать им, чтобы молния ударила в их посланца, а земля дрогнула и разверзлась под его быстрыми шагами, и эта непроходимая пропасть пролегла между тем местом, откуда должны были прийти вести, и Одли-Кортом.
Она желала, чтобы земля перестала вращаться, время остановило свой неумолимый бег, наступил Судный день и она могла предстать перед престолом Всевышнего и избежать позора и стыда суда земного. В диком смятении разума ее преследовали эти мысли, ей снилось это и в короткой дреме на диване в гардеробной. Она грезила, чтобы небольшой ручеек, пересекавший дорогу между Маунт-Стэннингом и Одли, вздулся и превратился в реку, из реки в океан, пока деревня на холме не скрылась из вида и только волны бушевали в том месте, где она когда-то стояла. Ей снилось, что она видит посланца, то одного, то другого, но никогда кого-то конкретного, у которого на пути вставали сотни препятствий, то ужасных, то смешных и банальных, но никогда естественных или просто возможных, и не в силах избавиться от этих мыслей, она удивлялась тишине, царившей в доме и означавшей, что известий еще нет.
Но теперь в ее голове произошла полная перемена. Она больше не хотела отсрочивать эти ужасные вести. Она желала мучений, чтобы покончить с ними, пережить боль и найти облегчение. Ей казалось, что этот невыносимый день никогда не кончится, как будто ее безумные желания осуществились и время действительно остановилось.
– Какой длинный день! – воскликнула Алисия, как будто прочитав мысли госпожи. – Ничего, кроме измороси, тумана и ветра! А теперь, когда слишком поздно для визитов, распогодилось, – с явной досадой добавила юная леди.
Леди Одли ничего не ответила. Она смотрела на причудливые часы с одной стрелкой и ожидала вестей, которые должны были прийти рано или поздно, не могли не появиться уже очень скоро.
«Они боятся рассказать ему, – подумала она, – боятся известить об этом сэра Майкла. Интересно, кто же в конце концов придет? Приходской священник или доктор, по крайней мере, кто-то из должностных лиц».
Если бы она могла выйти в аллею или на большую дорогу за ней, если бы она могла дойти до того холма, где совсем недавно рассталась с Фебой, она бы с радостью сделала это. Она бы пережила что угодно, только не это долгое ожидание, разъедающее душу беспокойство, это метафизическое тление, которое подтачивало ее сердце и рассудок в невыносимой пытке. Она попыталась завести разговор, в болезненной попытке ей удалось издать несколько общих замечаний. При обычных обстоятельствах ее спутница заметила бы это смущение, но поскольку мисс Одли была целиком погружена в собственные переживания, она была так же молчалива, как и госпожа. Монотонное хождение по дорожкам соответствовало настроению юной леди. Я думаю, ей даже доставляла злорадное удовольствие мысль, что она может простудиться, и кузен Роберт Одли будет нести ответственность за это. Если бы она могла подхватить воспаление легких в эту холодную мартовскую погоду, я думаю, она бы почувствовала мрачное удовлетворение от своих страданий.
«Может быть, Роберт заботился бы обо мне, если бы я заболела воспалением легких, – думала она. – Он бы не смог обидеть меня, обозвав попрыгуньей. У попрыгуний не бывает воспаления легких».
Я думаю, она представила себя в последней стадии чахотки, лежащей на подушках в огромном кресле и устремившей взор на солнечный свет в окошке, на столике рядом стоят бутылочки с лекарствами и лежит Библия; и Роберт, весь раскаяние и нежность, призван к ее ложу, чтобы получить прощальное благословение. Она бы прочитала ему целую главу своим слабым угасающим голосом. Погруженная в эти душещипательные размышления, мисс Одли обращала мало внимания на свою мачеху, и стрелка причудливых часов перескочила на цифру шесть к тому времени, когда Роберт был благословлен и отпущен.
– Боже мой, – неожиданно воскликнула она, – шесть часов, а я еще не одета.
– Понятия не имею, – довольно равнодушно ответила Алисия. – Возможно, он сказал, что скоро будет новая война, ей-богу, сэр, или, быть может, нам нужен новый министр, ей-богу, сэр, потому что все эти парни попали в передрягу, влипли, сэр, или что эти парни преобразовывают это и сокращают то, реформируют армию, пока, ей-богу, сэр, у нас совсем не будет армии – только банда мальчишек, сэр, напичканных по уши всяким школьным вздором и одетых в куртки из скорлупы и коленкоровые шлемы. Да, сэр, в этот самый день они сражаются в своих коленкоровых шлемах, сэр.
– Вы дерзкая девчонка, мисс, – ответил баронет. – Майор Мелвилл не говорил мне ничего подобного; он лишь сказал, что твой преданный поклонник, некий сэр Гарри Тауэрс, покинул свое имение и конюшни в Хертфордшире и уехал на год в Европу.
Мисс Одли неожиданно вспыхнула при упоминании о своем старом обожателе, но очень быстро оправилась.
– Так он уехал в Европу, не так ли? – безразлично промолвила она. – Он говорил мне, что собирается туда, если… не получится так, как он хочет. Бедняга! Он милый, славный, глупый парень и в двадцать раз лучше, чем этот странствующий остроумный морозильник мистер Роберт Одли.
– Мне бы хотелось, Алисия, чтобы ты так не увлекалась высмеиванием Боба, – мрачно заметил сэр Майкл. – Боб хороший парень, и я люблю его, как собственного сына, и… и… я очень беспокоюсь о нем в последнее время. Он очень изменился за последние несколько дней, вбил себе в голову всякие нелепые идеи, и госпожа встревожила меня. Она думает…
Леди Одли перебила мужа, мрачно покачав головой.
– Лучше пока не говорить об этом, – сказала она. – Алисия знает, что я думаю.
– Да, – подхватила мисс Одли, – госпожа думает, что Боб сошел с ума, но я его прекрасно знаю. Он совсем не такой человек, чтобы сходить с ума. Каким образом в этом стоячем болоте рассудка может подняться буря? Он может бродить, как лунатик, остаток всей жизни в безмятежном состоянии идиотизма, не вполне понимая, кто он и куда идет, и что он делает, но он никогда не сойдет с ума.
Сэр Майкл ничего не ответил. Его слишком обеспокоил разговор с госпожой накануне вечером, и с тех пор он молча размышлял об этом.
Его жена, женщина, которую он больше всех любил и которой больше всех доверял, сказала ему, что убеждена в безумии его племянника. Напрасно он пытался прийти к выводу, которого горячо желал; напрасно пытался думать, что госпожа была введена в заблуждение собственными фантазиями и не имела оснований для своих утверждений. И вдруг его осенило, что тогда напрашивался еще худший вывод – это значило перенести ужасное подозрение с племянника на жену. По-видимому, она была действительно убеждена в безумии Роберта. Представить, что она не права, значило предположить слабость ее рассудка. Чем больше он думал об этом, тем больше его это тревожило и приводило в недоумение. Конечно, молодой человек всегда был немного эксцентричен. Он был разумен, довольно умен, честен и благороден, хотя, быть может, и немного небрежен в выполнении некоторых второстепенных общественных обязанностей; но существовали легкие различия, которые не так легко определить, отделявшие его от других молодых людей его возраста и положения. Опять же, он действительно очень изменился со времени исчезновения Джорджа Толбойса. Он стал угрюмым и задумчивым, грустным и рассеянным. Он сторонился общества, часами сидел не разговаривая, временами говорил загадками, непривычно волновался при обсуждении вопросов, явно далеких от его жизни и интересов. Было и кое-что другое, говорившее в пользу доводов госпожи против несчастного молодого человека. Он воспитывался вместе со своей кузиной Алисией – своей хорошенькой добродушной кузиной, чей интерес к нему, даже привязанность, указывали на то, что она наиболее подходящая для него невеста. Более того, девушка показала ему в невинном простодушии своей открытой натуры, что она к нему неравнодушна; и все же, несмотря на это, он держался отстраненно и позволял другим молодым людям просить ее руки и получать отказы.
Ведь любовь настолько неуловима, такое неопределенное метафизическое чудо, что ее силу, которую жестоко чувствует сам страдающий, никогда вполне не понимают те, кто взирает на его мучения со стороны и удивляется, почему он так плохо переносит обычную лихорадку. Сэр Майкл находил странным и неестественным, что Роберт не влюбляется в такую хорошенькую и добродушную девушку, как Алисия. Этот баронет, дожив до шестидесяти лет, первый раз в жизни встретил женщину, которая заставила биться его сердце, и удивлялся, почему Роберт не заражается лихорадкой, едва вдохнув эти заразные бациллы. Он забыл, что есть мужчины, остающиеся невредимыми среди легионов хорошеньких и благородных женщин, но которые в конце концов становятся жертвой грубой мегеры, знающей секрет любовного зелья, отравляющего и очаровывающего их. Он забыл, сколько на свете Джеков, идущих по жизни, так и не встретив свою Джилл, предназначенную им судьбой, и возможно, умирают старыми холостяками в то время, как бедная Джилл чахнет где-то рядом в старых девах. Он забыл, что любовь – это безумие, бедствие, горячка, обман, западня является также и тайной, которую не дано понять никому, кроме того единственного страдальца, терзаемого этой пыткой. Джоунс, безумно влюбленный в мисс Браун и лежащий ночи напролет без сна до тех пор, пока не начинает ненавидеть свою мягкую подушку и комкать простыни, пока они не превратятся в две скрученные веревки, этот самый Джоунс, считающий площадь Рассел волшебным местом лишь потому, что его божество живет там, и полагающий, что деревья в этих местах зеленее, а небо более голубое, и ощущающий внезапную острую боль, перемешанную с надеждой, радостью, ожиданием и ужасом, покидая Гилфорд-стрит и спускаясь с высот Ислингтона в эти священные окрестности, этот самый Джоунс жесток и безжалостен к Смиту, обожающему мисс Робинсон, и не может представить, что же влюбленный до безумия парень нашел в этой девушке. Таков был и сэр Майкл Одли. Он смотрел на своего племянника, как на представителя большого класса молодых людей, а на свою дочь – как на представительницу такого же обширного класса девушек, и не мог понять, почему эти два представителя не могут составить достойную пару. Он не принимал во внимание все те бесконечно малые различия в человеческой натуре, которые превращают здоровую пищу для одного человека в смертельный яд для другого. Как трудно иной раз поверить, что кому-то не нравится вкусное блюдо. Если за обеденным столом какой-нибудь смиренного вида гость отказывается от семги или от огурцов в феврале, мы считаем его бедным родственником, чьи инстинкты предостерегают его от этих дорогих блюд.
Увы, моя милая Алисия, кузен не любил вас! Он восхищался вашим розовым английским личиком, чувствовал к вам нежную привязанность, которая, быть может, могла перерасти в нечто достаточно теплое для брака, этого ежедневного рутинного образчика союза, не требующего страстной любви; если бы не неожиданное препятствие, возникшее в Дорсетшире. Да, растущая привязанность Роберта Одли к своей кузине, этот слабый росток внезапно увял в тот ненастный февральский день, когда он стоял под елями, беседуя с Кларой Толбойс. С того дня молодой человек испытывал неприятное чувство при мысли об Алисии. Она каким-то образом стесняла его свободу мыслей, его преследовал страх, что он негласно связан с ней обещанием, что она имеет на него какие-то притязания, запрещающие ему даже думать о другой женщине. Я думаю, именно образ мисс Алисии вызывал у молодого адвоката взрывы раздражительной ярости против женского пола, которым он был подвержен одно время. Он был настолько честен, что скорее принес бы себя в жертву Алисии перед алтарем, чем причинил ей хоть малейшее зло, хотя, возможно, и обеспечил бы этим свое собственное счастье.
«Если бедная малышка любит меня, – размышлял он, – и если она думает, что я люблю ее, и решила так из-за какого-нибудь моего слова или поступка, я обязан выполнить свое молчаливое обещание, которое мог нечаянно дать ей. Я подумывал… собирался сделать ей предложение, когда раскроется эта ужасная тайна Джорджа Толбойса и все уладится, но теперь…»
В этом месте его мысли обычно уносились туда, под ели в Дорсетшире, к сестре его пропавшего друга, и это было весьма утомительное путешествие, возвращавшее его к тому месту, где он сбился с пути.
«Бедная маленькая девочка! – Его мысли вновь вернулись к Алисии. – Какая она милая, что любит меня, и как я должен быть благодарен ей за такую нежность. Сколько мужчин сочли бы это великодушное любящее сердечко величайшим даром на земле. Взять хотя бы сэра Гарри Тауэрса, ввергнутого в отчаяние ее отказом. Он отдал бы мне половину своего состояния, все свое состояние, отдал бы в два раза больше, если бы имел, лишь бы оказаться на моем месте. Почему я не могу полюбить ее? Ведь я знаю, какая она милая, чистая, добрая и правдивая, почему же я не люблю ее? Ее образ никогда не преследует меня, только укоряет. Я никогда не вижу ее во сне. Никогда не просыпаюсь внезапно в глубине ночи от сияния ее глаз, устремленных на меня, и ее теплого дыхания на моей щеке или от пожатия ее мягких пальчиков. Нет, я не люблю ее, я не могу влюбиться в нее».
Его возмущала и злила собственная неблагодарность. Он пытался заставить себя испытать страстную привязанность к своей кузине, но позорно провалился; и чем больше он старался думать об Алисии, тем больше думал о Кларе Толбойс. Я говорю сейчас о его чувствах за тот отрезок времени, что истек между его возвращением из Дорсетшира и визитом в Грейндж-Хит.
После завтрака в то дождливое утро сэр Майкл сидел в библиотеке у камина, читая газеты и просматривая письма. Алисия закрылась в своей комнате, штудируя третий том утомительно-длинного романа. Леди Одли заперла дверь восьмиугольной прихожей и бродила по анфиладе комнат из спальни в будуар и обратно в течение всего этого утомительного утра.
Она заперла дверь, чтобы ее не застали врасплох и она успела встретить их испытующие взгляды. Ее лицо, казалось, побледнело еще больше. Аккуратный ящичек с лекарствами стоял открытым на туалетном столике, повсюду были разбросаны маленькие закупоренные бутылочки с лавандой, нюхательной солью и хлороформом. Госпожа остановилась и стала рассеянно вынимать оставшиеся бутылочки, пока не натолкнулась на одну, заполненную тягучей темной жидкостью с этикеткой «Опиум (яд)».
Она повертела ее в руках, держа ближе к свету, и даже вынула пробку и понюхала тошнотворную жидкость. Но вдруг с содроганием отодвинула ее.
– Если бы я могла! – прошептала она. – Если бы я только могла сделать это! И все же к чему это… теперь?
Она сжала свои маленькие кулачки, произнося эти последние слова, и подошла к окну гардеробной, выходившему на увитую плющом арку, через которую должен был проходить любой, кто направлялся в Корт из Маунт-Стэннинга.
В саду были маленькие ворота, ведущие в луга за Кортом, но другой дороги из Маунт-Стэннинга или Брентвуда не было, кроме этого главного входа.
Единственная стрелка часов на арке находилась между часом и двумя, когда госпожа взглянула на них.
– Как медленно тянется время, – устало промолвила она, – как медленно, как медленно! Интересно, состарюсь ли я точно также, когда каждая минута моей жизни кажется часом?.
Она постояла несколько минут, наблюдая за аркой, но никто не проходил под ней; она в нетерпении отвернулась от окна и возобновила свое утомительное хождение по комнате.
Каков бы ни был пожар, чей отсвет пламенел накануне в черном небе, вести о нем еще не достигли Одли-Корт. День был такой сырой и ветреный, что даже самый заядлый сплетник не решится выйти в такую погоду. День был не рыночный, на дороге между Брентвудом и Челмсфордом почти не было повозок, поэтому известия о пожаре, вспыхнувшем глубокой ночью, еще не достигли деревни Одли, а оттуда и Корта.
Служанка с розовыми лентами подошла к двери прихожей, чтобы позвать хозяйку на ланч, но леди Одли только немного приоткрыла дверь и сказала, что не желает обедать.
– У меня ужасно болит голова, Мартина, – пожаловалась она. – Я пойду прилягу до обеда. Можешь прийти в пять, чтобы помочь мне переодеться.
Леди Одли сказала так с намерением одеться в четыре и обойтись, таким образом, без услуг служанки. Среди всех шпионов служанка госпожи имеет самые большие преимущества. Именно она омыла глаза леди Терезы одеколоном после ссоры ее милости с полковником, именно она подавала нюхательные соли мисс Фанни, когда граф Бейдесерт оскорбил ее. У нее есть сотня способов раскрыть секреты своей хозяйки. Уже по тому, как раздражается ее хозяйка от самого мягкого прикосновения расчески, она знает, какие тайные пытки терзают ей грудь. Хорошо воспитанная служанка знает, как истолковать самые непонятные симптомы душевных недугов, беспокоящих ее хозяйку; она знает, когда кожа цвета слоновой кости покупается за деньги, а жемчужные зубы – всего лишь вещество из-за границы, установленное дантистом; когда блестящие косы – скорее реликвия мертвых, чем собственность живых, ей также известны и другие, более священные секреты, чем эти. Она знает, когда милая улыбка более фальшива, чем эмаль мадам Левисон, когда слова, слетающие из-за этих жемчужных подделок, более притворны, чем губы, помогающие издавать их. Когда прекрасная фея бальной залы возвращается в свою гардеробную после ночного шумного веселья, сбрасывает свой просторный бурнус и откидывает в сторону увядший букет, роняет маску, и словно еще одна Золушка теряет хрустальную туфельку, по сиянию которой ее узнавали, и опять надевает свои лохмотья, – служанка госпожи всегда рядом и видит эти превращения. Камердинер, получающий жалованье от предсказателя Каразина, должно быть, видел иногда своего господина без маски и смеялся в рукав над глупостью поклонников этого урода.
Леди Одли не делала служанку поверенной своих секретов и в этот день, а также во все последующие желала остаться одна.
Она все-таки прилегла, скорее устало бросилась на роскошный диван в своей гардеробной, и, зарывшись лицом в подушки, попыталась уснуть. Уснуть! Она почти забыла, что такое сон; казалось, прошло так много времени, с тех пор как она спала в последний раз. Возможно, около сорока восьми часов, но как давно! Ее усталость предыдущей ночью, неестественное возбуждение вконец изнурили ее. Она все-таки уснула, провалилась в тяжелое забытье, похожее на оцепенение. Прежде чем лечь, она приняла несколько капель опиума.
Часы на каминной полке показывали без четверти четыре, когда она внезапно проснулась и вскочила с каплями холодного пота на лбу. Ей снилось, что все домочадцы столпились у ее дверей и шумно кричали о пожаре, случившемся ночью.
В комнате царило безмолвие, лишь ветви плюща бились об оконное стекло; время от времени было слышно, как падали кусочки золы и раздавалось тиканье часов.
«Наверное, мне всегда будут сниться подобные сны, – подумала госпожа, – пока их ужас не убьет меня!»
Дождь прекратился, и в окна засияло холодное весеннее солнце. Леди Одли быстро, но тщательно оделась. Я не могу сказать, что даже в момент сильного горя она все еще сохраняла гордость в своей красоте. Это было не так; она смотрела на этот природный дар как на оружие и чувствовала, что теперь вдвойне нуждается в нем. Люси оделась в самые прекрасные шелка, просторную одежду, отливающую серебром, словно сотканную из лунных лучей. Она распустила волосы, и они опустились пушистым сияющим золотым дождем на ее плечи, и, накинув на плечи белый плащ, спустилась по лестнице в вестибюль.
Она открыла дверь библиотеки и заглянула внутрь. Сэр Майкл Одли спал в кресле. Когда госпожа мягко закрывала дверь, из своей комнаты спустилась Алисия. Башенная дверца была открыта, на мокрой траве лужайки сияло солнце. Гравийные дорожки почти высохли, поскольку дождь прекратился почти два часа назад.
– Ты не прогуляешься со мной? – спросила леди Одли, когда ее падчерица подошла поближе. Вооруженный нейтралитет между двумя женщинами допускал такую любезность.
– Да, госпожа, – довольно равнодушно ответила Алисия. – Я все утро прозевала над этим глупым романом, и свежий воздух пойдет мне на пользу.
Помоги Бог тому писателю, чей роман столь внимательно читала мисс Одли, если у него не было лучшего критика, чем эта юная леди. Она перелистывала страницу за страницей, не сознавая, что читает; она дюжину раз отбрасывала его в сторону, чтобы подойти к окну и посмотреть, – не идет ли гость, которого она так ждала.
Леди Одли вышла через маленькую дверцу на ровную гравийную дорожку, по которой экипажи подъезжали к дому. Она все еще была бледна, но яркое платье и пушистые золотистые волосы отвлекали внимание от ее мертвенно-бледного лица. Всякое душевное страдание ассоциируется в нашем сознании со свободой, небрежной одеждой, растрепанными волосами и внешностью, во всем противоположной той, что была у госпожи. Зачем она вышла под холодное мартовское солнце бродить по дорожкам со своей падчерицей, которую ненавидела? Она вышла, потому что ею владело ужасное беспокойство, не позволявшее оставаться в доме, ожидая известий, которые наверняка скоро будут. Вначале она хотела отвратить их, всей душой желала помешать им, чтобы молния ударила в их посланца, а земля дрогнула и разверзлась под его быстрыми шагами, и эта непроходимая пропасть пролегла между тем местом, откуда должны были прийти вести, и Одли-Кортом.
Она желала, чтобы земля перестала вращаться, время остановило свой неумолимый бег, наступил Судный день и она могла предстать перед престолом Всевышнего и избежать позора и стыда суда земного. В диком смятении разума ее преследовали эти мысли, ей снилось это и в короткой дреме на диване в гардеробной. Она грезила, чтобы небольшой ручеек, пересекавший дорогу между Маунт-Стэннингом и Одли, вздулся и превратился в реку, из реки в океан, пока деревня на холме не скрылась из вида и только волны бушевали в том месте, где она когда-то стояла. Ей снилось, что она видит посланца, то одного, то другого, но никогда кого-то конкретного, у которого на пути вставали сотни препятствий, то ужасных, то смешных и банальных, но никогда естественных или просто возможных, и не в силах избавиться от этих мыслей, она удивлялась тишине, царившей в доме и означавшей, что известий еще нет.
Но теперь в ее голове произошла полная перемена. Она больше не хотела отсрочивать эти ужасные вести. Она желала мучений, чтобы покончить с ними, пережить боль и найти облегчение. Ей казалось, что этот невыносимый день никогда не кончится, как будто ее безумные желания осуществились и время действительно остановилось.
– Какой длинный день! – воскликнула Алисия, как будто прочитав мысли госпожи. – Ничего, кроме измороси, тумана и ветра! А теперь, когда слишком поздно для визитов, распогодилось, – с явной досадой добавила юная леди.
Леди Одли ничего не ответила. Она смотрела на причудливые часы с одной стрелкой и ожидала вестей, которые должны были прийти рано или поздно, не могли не появиться уже очень скоро.
«Они боятся рассказать ему, – подумала она, – боятся известить об этом сэра Майкла. Интересно, кто же в конце концов придет? Приходской священник или доктор, по крайней мере, кто-то из должностных лиц».
Если бы она могла выйти в аллею или на большую дорогу за ней, если бы она могла дойти до того холма, где совсем недавно рассталась с Фебой, она бы с радостью сделала это. Она бы пережила что угодно, только не это долгое ожидание, разъедающее душу беспокойство, это метафизическое тление, которое подтачивало ее сердце и рассудок в невыносимой пытке. Она попыталась завести разговор, в болезненной попытке ей удалось издать несколько общих замечаний. При обычных обстоятельствах ее спутница заметила бы это смущение, но поскольку мисс Одли была целиком погружена в собственные переживания, она была так же молчалива, как и госпожа. Монотонное хождение по дорожкам соответствовало настроению юной леди. Я думаю, ей даже доставляла злорадное удовольствие мысль, что она может простудиться, и кузен Роберт Одли будет нести ответственность за это. Если бы она могла подхватить воспаление легких в эту холодную мартовскую погоду, я думаю, она бы почувствовала мрачное удовлетворение от своих страданий.
«Может быть, Роберт заботился бы обо мне, если бы я заболела воспалением легких, – думала она. – Он бы не смог обидеть меня, обозвав попрыгуньей. У попрыгуний не бывает воспаления легких».
Я думаю, она представила себя в последней стадии чахотки, лежащей на подушках в огромном кресле и устремившей взор на солнечный свет в окошке, на столике рядом стоят бутылочки с лекарствами и лежит Библия; и Роберт, весь раскаяние и нежность, призван к ее ложу, чтобы получить прощальное благословение. Она бы прочитала ему целую главу своим слабым угасающим голосом. Погруженная в эти душещипательные размышления, мисс Одли обращала мало внимания на свою мачеху, и стрелка причудливых часов перескочила на цифру шесть к тому времени, когда Роберт был благословлен и отпущен.
– Боже мой, – неожиданно воскликнула она, – шесть часов, а я еще не одета.