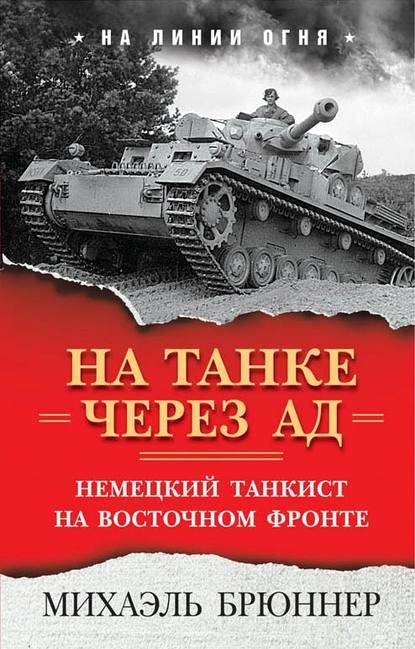По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На танке через ад. Немецкий танкист на Восточном фронте
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На танке через ад. Немецкий танкист на Восточном фронте
Михаэль Брюннер
На линии огня
Когда недоучившийся школьник Михаэль Брюннер вступал добровольцем в Вермахт, он верил, что впереди его ждут лишь победные фанфары, но он оказался в кромешном аду Восточного фронта. Таких, как он, немцы зовут Schlaumeier (дословно: «хитрюга»), а русские сказали бы: «хитрожопый» – циничный, себе на уме, отнюдь не склонный к самопожертвованию. Брюннер не брезговал ничем, чтобы спасти собственную шкуру, однако не избежал ни участия в самых кровопролитных сражениях второй половины войны, ни серьезных ранений. Будучи радистом танка PzKpfw IV, вместе с элитной 24-й танковой дивизией он прошел через жесточайшие бои на Никопольском плацдарме, под Яссами, между Саном и Вислой и лишь чудом не попал в советский плен: в последний момент, нарушив приказ и бросив свою часть, успел удрать в американскую зону оккупации…
Обо всем этом Брюннер рассказал в своих мемуарах – на удивление откровенно и цинично, не скрывая самых неприглядных фактов, с массой интереснейших подробностей танковой войны на Восточном фронте.
Михаэль Брюннер
На танке через ад. Немецкий танкист на Восточном фронте
Трудовая повинность
После того как завершилась кампания во Франции, непобедимые до тех пор немецкие войска торжественным маршем проходили по Фрайбургу (Брайсгау), а многие мальчишки, стоявшие по сторонам улиц, страстно желавшие стать такими же героями, маршировали за их строем. Я тоже видел это, как и многие другие зрители, махавшие солдатам, дарившие им цветы, приветствовавшие их из окон домов, «украшенных» флагами со свастикой, и не избежал чувства воодушевления. Когда я в те времена слышал по радио в специальном сообщении о сороковой победе летчика Мёльдерса, то сразу же шел к матери, чтобы с энтузиазмом рассказать ей об этом «подвиге». Но она совершенно не хотела ничего знать о военных подвигах и только резко отвечала: «Ну и что? Это же только удлиняет войну».
Многие ли могли тогда так думать? Конечно же, нет. Отец мой к тому времени уже умер. До Первой мировой войны он был унтер-офицером резерва саксонской конной артиллерии и всегда питал определенную симпатию к военной службе. Во время Первой мировой войны он был назначен директором газового завода, поэтому его не призвали. Однако как-то раз на своем автомобиле он поехал на фронт и привез оттуда фотографию английского танка. И хотя еще в 1908 году вступил в масонскую ложу, он и во времена Гитлера сохранял прежнюю любовь к военной форме и военной службе. Смерть в начале 1938 года уберегла его от переживаний, связанных с конфликтом между масонской идеей и нацистским государством.[1 - В феврале 1938 г. масонские ложи в Германии были запрещены. – Прим. пер.]
В отношении меня его ранняя смерть также уберегла от разочарования, что я, несмотря на аттестат о среднем образовании, после четырех с половиной лет военной службы вернулся с войны лишь мелким унтером, а не блестящим офицером. Хотя, быть может, это бы ему открыло глаза на то, что лучше иметь сына, вернувшегося с войны солдатом, но живым, чем сына офицера, «погибшего смертью героя».
Мое решение пойти добровольцем в Вермахт имеет мало общего с этими переживаниями и представлениями. Хотя я сначала тоже был воодушевлен блестящими победами над Польшей и Францией, причина записаться добровольцем заключалась прежде всего в моей не слишком успешной учебе в школе. Хотя она и была удовлетворительной, но обещала некоторые трудности в получении аттестата. Во время войны, будучи учеником выпускного класса, при поступлении в Вермахт я мог получить аттестат без экзаменов. В 17 лет я использовал эту возможность, записавшись добровольцем в Вермахт. Так, хотя я несколькими месяцами раньше моих одноклассников попал в Вермахт, но, как увидите позже, из-за очень долгой службы в запасной части на фронте я оказался не раньше их.
1 октября 1940 года я должен был надеть не серо-полевой мундир Вермахта, а коричневую форму трудовой службы. Первый лагерь трудовой повинности находился на опушке леса поблизости от деревушки Вурцельхофен под Регенсбургом, по тем условиям довольно далеко от дома. Здесь началась первая муштра.
Фюреры трудовой службы, определявшие мою жизнь в течение следующих двух месяцев, были пошлыми, иногда глупыми, не испорченными культурой людьми, вели себя примитивно и мелко. На вопрос фельдмайстера (лейтенанта): «Профессия?» я ответил: «Абитуриент». На что он заметил: «Никакой».
Под властью фюрера трудовой повинности: проверка сапог и униформы. Проверка, все ли гвозди в подметке на месте. Рабочие с лопатой носили в ранце и сухарной сумке все свое имущество.
Такое представление, что абитуриент – не профессия, хотя и было, по существу, верным, но не могло быть простым утверждением. Оно скорее отражало его предрассудки против социального слоя. Тому, кто позднее может стать немного «лучше», следовало не сильно, но вполне определенно показать, кто сейчас является настоящим господином. При этом фюреры трудовой службы были начальниками в не имеющей значения, более чем второсортной нацистской организации, которая Вермахтом вообще полностью не воспринималась. Позднее, во время рекрутского обучения в Вермахте, я нередко встречал такую реакцию на «профессию абитуриент». Но там уже не удовлетворялись упомянутым утверждением «никакая», а намекали абитуриенту приказом: «Ложись!», что сам он – «ничто». Все это было частью системы, постоянно унижавшей морально и воспитывавшей из нас безвольных солдат.
После начальной подготовки, заключавшейся в почти армейской строевой муштре, при которой вместо винтовки использовалась лопата, мы приступили к настоящей трудовой деятельности. Мы должны были работать в лесном хозяйстве князя Турн-унд-Таксиса. Работа включала валку деревьев, обрубку сучьев, распилку бревен, очистку их от коры и погрузку. Мы быстро поняли, что чистить стволы от коры и обрубать сучья гораздо легче, чем валить деревья. Каждое утро для нашего отряда кучей выкладывались инструменты. По команде мы бежали к ней и выбирали инструмент. Тот инструмент, который удавалось выхватить, и определял характер труда и весь рабочий день.
В группу вместе со мной попал мой друг из Фрайбурга. Каждое утро мы бежали к куче инструментов, чтобы выхватить из нее инструмент для более легкой работы не только для себя, но и для друга. Благодаря такому быстрому выбору в начале дня нам удавалось работать почти всегда вместе и выполнять работу полегче, которая была все же достаточно тяжелой для семнадцатилетних мальчишек. После шести недель трудовой повинности на лесоповале отряд перевели в окрестности Кама, где мы строили бараки для служащих-женщин. Там я получил повестку в Вермахт.
Удвоенное время службы рекрутом
Чтобы поступить в Вермахт, в декабре 1940 года я сначала приехал в Донауэшенген, находящийся в 60 километрах от моего родного Фрайбурга. На обширной территории казарм проходила подготовка рекрутов при 14-й истребительно-противотанковой пехотной роте 503-го полка, легкой истребительно-противотанковой роте. При поступлении в Вермахт каждый солдат получал медальон, который при переводе в другую часть не подлежал обмену или изменению. Его было необходимо всегда носить на шее. Прорези делили его на три части, чтобы в случае смерти владельца медальон можно было легко переломить. При этом одна половинка оставалась на погибшем, а другая служила для его идентификации и учета. На медальоне указывалась также группа крови. Мою группу крови тогда на медицинском освидетельствовании определили неточно как группу В и проставили на медальоне. Однако сегодня я знаю, что у меня группа AB, и поэтому мне повезло, что я избежал переливания крови и, таким образом, гемолитического кризиса.
Наряду с начальной подготовкой, к которой относились строевые приемы, проводилась и специальная подготовка – стрельба из 37-мм противотанковой пушки. Рекрутами были в основном мужчины старших возрастов – крестьяне, виноградари, ремесленники. Было и несколько абитуриентов.
Главный результат начальной подготовки заключался в том, что мы научились увиливать от службы. Для этого одного из рекрутов выставляли на удобном месте у парковых боксов, чтобы он наблюдал за «противником». Роль «противника» в данном случае отводилась офицеру. Пока он не появлялся, мы сидели и стояли вокруг пушки, практически ничего не делая. Только если приближался офицер, мы начинали прилежные учения с пушкой. Но поскольку офицеры проверяли занятия редко, то подготовка рекрутов проходила довольно приятно. В Донауэшенгене я встретил свое первое военное Рождество. За ним должны были последовать еще четыре, проведенные вдали от дома. На то первое Рождество я получил от шварцвальдского объединения рождественский подарок. Он состоял из рекламного журнальчика с рождественскими рассказами, карманного календаря и хорошего карандаша серебряного цвета из альпаки с надписью «Военное Рождество 1940 – Шварцвальдское объединение». Фрайбургский теннисный клуб тоже вспомнил о своих юниорах и прислал подарки. В последующие годы родина вынуждена была больше думать о себе самой и поэтому подарков на Рождество больше не присылала.
Несмотря на легкую службу в пехоте, однажды я записался добровольно в танковые войска. Во второй раз я записался добровольцем, и снова по вполне разумным причинам. Я думал так: «В пехоте надо много бегать, оставаться беззащитным на поле, мокнуть под дождем». А поскольку в Донауэшенгене стояла холодная зима, было легко представить, как мерзнут зимой в пехоте. «Напротив, в танковых войсках ты защищен, тебе не надо ходить пешком, а после боя ты едешь на танке в тыл, в безопасный район».
Позднее, когда я уже служил в танковых войсках, я много раз спрашивал себя, не перевестись ли мне в войска СС? Что ждало солдат в войсках СС?
«Солдатское радио» между солдатами разных частей во время войны работало довольно хорошо. От того или иного солдата во время увольнительной, в отпуске или в поездке по железной дороге всегда можно было услышать множество полезных вещей. Так, например, было известно, что в войсках СС лучше вооружение. С середины войны войска СС в основном были вооружены танками «пантера» и «тигр». А это означало, что, в отличие от танка IV, применявшегося преимущественно в Вермахте, у них лучшие пушки, определявшие во время танковой атаки, получит ли решающее поражение противник или ты сам. Это означало и лучшее бронирование, и, таким образом, лучшую защищенность. Обмундирование тоже было лучше, как я в этом убедился сам во время поездки с товарищем в танковую часть СС в России. У меня, например, зимой в России не было валенок, так как моего размера не было на складе. В войсках СС представить такое было невозможно. Питание тоже у них было лучше. В конце концов, мое решение, не переводиться в войска СС определилось мыслью, что войска СС представляют собой продолжение организации юнгфольк, или гитлерюгенда для взрослых. Это мне не нравилось. Но такое мое решение пока не определялось политикой, потому что мы, солдаты, считали служащих в войсках СС тоже солдатами.
Итак, я решил пойти в танковые войска, и 1 января 1941 года был направлен в 7-й танковый батальон в Бёблинген. Там начался мой второй рекрутский срок, совершенно не такая служба, которая была раньше. Она была ужасной! Через пару дней я написал матери о том, как мечтаю о спокойном Донауэшенгене. А потом я как о чем-то особенно приятном вспоминал о школе, когда учитель латыни иногда ругал меня гнусавым голосом: «Бётгер, разве это латынь? Иди мастеровым мостить улицы! Будешь до старости работать всегда на свежем воздухе!»
Теперь я испытал такую военную муштру, которую просто считал невозможной. Мы сразу же выучили отрывистые «Так точно!», «Смирно!», «Есть!». Потом нас запугали, замучили, задергали командами, выдрессировали и деморализовали. По три часа мы маршировали в надетых противогазах и при этом должны были непрерывно петь песню «Как прекрасно быть солдатом!». Потом над нами издевались над каждым в отдельности или над целыми группами сразу. Во время занятий на технике один из рекрутов хотел укрепить на танке магнитную лампу. Она упала, а рекрут ругнулся: «Вот дрянь!» Инструктор унтер-офицер приказал ему встать «смирно», гладить лампу, словно собаку, и при этом приговаривать: «Я больше никогда не буду называть тебя дрянью!» Так он потом и стоял в танковом боксе с лампой в руке, гладил ее и непрестанно приговаривал: «Я больше никогда не буду называть тебя дрянью!»
Рядом с нашим кубриком в казарме была комната унтер-офицера. Когда ему вечером нужны были пиво или сигареты из буфета, или нужно было почистить сапоги или куртку, или еще чего-нибудь, он просто стучал кулаком в стену. Немедленно один из рекрутов должен был постучаться в его дверь, представиться по званию и фамилии, в готовности выполнить его приказ. Часто находившиеся в помещении не могли договориться, чья очередь выполнять приказ, начинали спорить. И если через несколько секунд после стука никто не входил в комнату унтер-офицера, то он появлялся сам со злобной физиономией и начинал:
– Что, никто не хочет?
Потом следовала ругань и какой-нибудь приказ вроде:
– Всем построиться в коридоре с табуретками «на караул»!
Через минуту мы стояли в коридоре с табуретками в вытянутых руках. Затем он гонял нас по казарме, постоянно командуя «ложись!» и «смирно!». Потом мы должны были подниматься по казарменной лестнице на получетвереньках с табуретками в руках, то есть опираясь только на колени и локти. Другой любимой ответной реакцией того унтер-офицера, авторитет которого основывался только на галуне, нашитом на воротник, была игра в «сарасани», или в «бал-маскарад», которую он считал веселой, и лицо его расплывалось в широкой ухмылке. При игре в «сарасани» рекруты должны были быстро переодеваться из полевой формы в повседневную, затем в спортивный костюм, потом в танкистскую форму, а потом – в парадно-выходную. Ее пестрые обшлага, петлицы и серебряные пуговицы делали ее похожей на костюм циркового укротителя, поэтому солдаты прозвали ее по названию цирка «Сарасани».
На наш взгляд, бесчеловечная тирания, естественно, не имела ничего общего с военной подготовкой или воплощением идеологической доктрины. Она была скорее выражением жестокого и недостойного воспитания солдат. Прусские военные «добродетели», такие как точность, дисциплинированность, стойкость, пагубно соединились здесь с требованиями Гитлера «к лучшему солдату мира». Можно легко себе представить, как тот же воинственный унтер-офицер, направленный служить в другое место, например в охрану концлагеря, опьяненный предоставленной ему властью над жизнью и смертью, быстро превратится в палача.
В страхе и неопределенности проходили каждый раз поверки. Все, что находилось в казарме, начиная от пола, столов, табуретов, кроватей, шкафов и кончая самими солдатами, могло быть в любой момент проверено на чистоту и порядок. Так проверялось, чтобы солдат не только заправлял постель, но и чтобы подушки и одеяла были выровнены по ниточке. Каждый раз мы сбрызгивали водой пододеяльники, чтобы их можно было разгладить. Тем не менее то, как мы заправляли постели, никогда не нравилось нашему унтер-офицеру, взводному фельдфебелю или главному фельдфебелю – старшине. Тогда все, из чего состояли постели: одеяла, простыни, солома из матрасов – разлеталось по казарменному помещению. Как-то раз во время проверки шкафов, когда я в дрожащих вытянутых руках представлял на проверку ботинки, фельдфебель заорал на меня:
– И это вы называете чистить?
Потом он тут же распахнул окно, схватил мои ботинки и выбросил их во двор с третьего этажа. В другой раз я видел осмотр шкафов солдат, выбранных кандидатами на учебу в офицерской школе. Молодые солдаты должны были на плечах нести довольно тяжелые шкафы на плац, чтобы предъявить их для проверки. Все содержимое этих шкафов, конечно же, попадало и перемешалось, и это дало командирам возможность продемонстрировать всю свою силу. Таким образом, молодые солдаты, которые вскоре сами смогут отдавать приказы унтер-офицерам, были «выведены на показ».
Прежде чем покинуть помещение, мы должны были всегда запирать шкаф. Если он оставался открытым, то это был проступок – «совращение на кражу у товарища» и за него наказывали. По логике, которую я, как и многое другое во время этой подготовки рекрутов, так и не смог понять.
Впервые через пять месяцев службы я смог получить разрешенный, то есть подписанный командиром роты, отпуск на субботу и воскресенье во Фрайбург. До этого, правда, я получал увольнительные, с которыми можно было уезжать не далее 50 километров от части. И я вынужден был отказаться от этого отпуска из-за винтовки! Дело в том, что когда ходишь по земле, пыль так или иначе попадает в канал ствола твоей винтовки. При завершающей проверке чистоты унтер-офицер под конец одним глазом глянул в ствол винтовки, которую я держал, как положено по команде «оружие к осмотру!» стволом к небу, и заявил:
– В твоем стволе сидит целая толпа слонов!
Пришлось снова чистить винтовку. И пока удалось снова представить почищенную винтовку унтер-офицеру, время ушло. Его расчет был точен. Когда я прибежал на платформу вокзала, то увидел замыкающие огни уходящего поезда. От бешенства слезы брызнули у меня из глаз. Я был сильно раздосадован.
В следующий раз, хотя командир роты и подписал мой рапорт на отпуск, но, словно учитель в школе, исправил его красным карандашом. В школе мы, как тогда было принято, изучали немецкую (готическую) каллиграфию и наряду с ней – латинскую, для уроков латинского языка. Я привык на письме перемежать готические буквы латинскими. Хотя мое прошение об отпуске и было принято, но «ошибочные» буквы были почерканы красным карандашом. Таким образом, командир роты показал абитуриенту, этому «ничто», что тот, несмотря на восемь лет гимназии, не умеет правильно писать по-немецки.
Иногда, в зависимости от настроения главного фельдфебеля, утренний осмотр превращался в издевательства с непредсказуемыми придирками. Ему, например, могло показаться, что пряжка ремня недостаточно блестит, что неправильно повязан галстук или что он недостаточно чист, что волосы недостаточно коротко пострижены. Или, как уже упоминалось, ему просто попадался абитуриент – сразу же следовало наказание в виде многочисленных «лечь – встать», «прыжков по-заячьи» или бега вокруг казармы. Мне особенно запомнился тщедушный солдатик, который в полной выкладке, то есть в стальном шлеме, с ранцем и винтовкой, должен был карабкаться на высокий ящик с песком, который был установлен перед окнами полуподвала с целью защиты от разрывов авиабомб. Забравшись наверх, он должен был встать по стойке «смирно» и кричать: «Я – позор для германского Вермахта!» На что главный фельдфебель хладнокровно повторял приказ: «Громче!» Это продолжалось до тех пор, пока бедный малый совсем охрип. Вид этого маленького солдата на ящике с песком, запуганного, чуть не плачущего, из последних сил пытающегося достаточно громко крикнуть, был очень жалким. Его вынужденное признание было скорее позором для Вермахта.
Особенно несправедливым я считал наказание за плохую стрельбу. Наша рота на танковых стрельбах действительно плохо стреляла. Причина неудачи этих стрельб заключалась не в самом подразделении, а в постановке задачи и в приказах руководившего унтер-офицера. Упражнение заключалось в том, чтобы из пулемета, установленного на танке типа I, едущем по неровной бетонированной дороге, на участке, ограниченном флажками, сделать 25 выстрелов по круглому щиту с нарисованным в полный рост солдатом. Из едущего танка можно было смотреть только в прицел. Можно легко себе представить, что когда танк едет по неровной дороге, то неподвижно закрепленный в его башне пулемет направлен то на дорогу, то в небо. Так получилось и у меня, когда я сидел в танке на месте стрелка. Первый флажок уже давно проехали, и я должен был открыть огонь по цели. Но так как я ее не видел, то и не стрелял. Тут начал кричать унтер-офицер:
– Стреляйте же наконец!
Но я по-прежнему не видел цели. Почему я должен был стрелять, не видя ее? Это был мой первый мелкий отказ выполнить приказ. Но тут вдруг цель показалась точно в перекрестье прицела, я нажал на спуск, и все 25 пуль попали точно в мишень. Если бы я, следуя приказу, «наконец», то есть раньше времени, открыл огонь, то у меня, как и у других рекрутов, все пули попали бы в дорогу или ушли в небо.
Обучение проводилось на танках типа I. Унтер-офицер инструктор во время полевых занятий
Из-за того, что почти все рекруты в таких условиях промазали по цели, все должны были не продолжать тренироваться в стрельбе, а в наказание в воскресенье после обеда четыре часа заниматься строевой подготовкой. Во время нее все 150 рекрутов роты маршировали в одной шеренге, то есть в один растянутый ряд один возле другого. Но настоящее наказание началось, когда последовали приказы о быстром изменении направления: два или три раза «правое плечо вперед марш!» и «левое плечо вперед марш!». При этом, в зависимости от поданной команды, крайний марширующий солдат должен был относительно быстро поворачиваться на 180 градусов на месте, а остальные, словно спица колеса, в зависимости от своего удаления от него, быстро идти или почти бежать. Как только выравнивали строй в указанном направлении, следовал новый приказ. Через четыре часа таких занятий мы были совершенно измотаны и озлоблены. Примечательные слова нашего командира роты, которыми он подбадривал рекрутов во время учебы: «Рекрутское время – самое лучшее время жизни» – вскоре превратились в обычное глумление.
30 мая 1941 года часть прощалась с командиром батальона. По этому поводу был устроен помпезный парад, как в мирное время. Но в таком гарнизонном городишке, как Бёблинген, война была еще незаметна.
Во время тяжелой службы небольшие минуты отдыха сначала использовались для написания писем, а иногда удавалось получить увольнение в гарнизонный город Бёблинген. Тогда чаще всего мы ходили в кафе. Вопреки заявлению Гитлера о том, что каждый должен иметь свой «народный радиоприемник», в бёблингенской казарме никакого радио у рекрутов не было. Особенными развлекательными мероприятиями были посещения кино, где рекруты с удовольствием смотрели фильмы киностудии УФА.
На выходе из казарм у солдат, идущих в увольнение, дежурный требовал предъявить солдатскую книжку, расческу и презерватив (что было особенно важно, так как за заболевание венерической болезнью всегда следовало строгое взыскание). Без этих предметов выйти было невозможно.
9 марта 1941 года меня отпустили в отпуск в Штутгарт, на международный футбольный матч Германия – Швейцария. После многонедельной жизни в казарме было особым удовольствием перед игрой пройти мимо шикарных магазинов по штутгартской Кёнигштрассе. Но что особенно осталось у меня в памяти, что все прохожие, не считая хорошеньких женщин, почти все оказывались начальниками. Мне почти непрерывно приходилось поднимать правую руку к пилотке, чтобы то и дело приветствовать унтер-офицеров, фельдфебелей или офицеров, шедших навстречу.
Михаэль Брюннер
На линии огня
Когда недоучившийся школьник Михаэль Брюннер вступал добровольцем в Вермахт, он верил, что впереди его ждут лишь победные фанфары, но он оказался в кромешном аду Восточного фронта. Таких, как он, немцы зовут Schlaumeier (дословно: «хитрюга»), а русские сказали бы: «хитрожопый» – циничный, себе на уме, отнюдь не склонный к самопожертвованию. Брюннер не брезговал ничем, чтобы спасти собственную шкуру, однако не избежал ни участия в самых кровопролитных сражениях второй половины войны, ни серьезных ранений. Будучи радистом танка PzKpfw IV, вместе с элитной 24-й танковой дивизией он прошел через жесточайшие бои на Никопольском плацдарме, под Яссами, между Саном и Вислой и лишь чудом не попал в советский плен: в последний момент, нарушив приказ и бросив свою часть, успел удрать в американскую зону оккупации…
Обо всем этом Брюннер рассказал в своих мемуарах – на удивление откровенно и цинично, не скрывая самых неприглядных фактов, с массой интереснейших подробностей танковой войны на Восточном фронте.
Михаэль Брюннер
На танке через ад. Немецкий танкист на Восточном фронте
Трудовая повинность
После того как завершилась кампания во Франции, непобедимые до тех пор немецкие войска торжественным маршем проходили по Фрайбургу (Брайсгау), а многие мальчишки, стоявшие по сторонам улиц, страстно желавшие стать такими же героями, маршировали за их строем. Я тоже видел это, как и многие другие зрители, махавшие солдатам, дарившие им цветы, приветствовавшие их из окон домов, «украшенных» флагами со свастикой, и не избежал чувства воодушевления. Когда я в те времена слышал по радио в специальном сообщении о сороковой победе летчика Мёльдерса, то сразу же шел к матери, чтобы с энтузиазмом рассказать ей об этом «подвиге». Но она совершенно не хотела ничего знать о военных подвигах и только резко отвечала: «Ну и что? Это же только удлиняет войну».
Многие ли могли тогда так думать? Конечно же, нет. Отец мой к тому времени уже умер. До Первой мировой войны он был унтер-офицером резерва саксонской конной артиллерии и всегда питал определенную симпатию к военной службе. Во время Первой мировой войны он был назначен директором газового завода, поэтому его не призвали. Однако как-то раз на своем автомобиле он поехал на фронт и привез оттуда фотографию английского танка. И хотя еще в 1908 году вступил в масонскую ложу, он и во времена Гитлера сохранял прежнюю любовь к военной форме и военной службе. Смерть в начале 1938 года уберегла его от переживаний, связанных с конфликтом между масонской идеей и нацистским государством.[1 - В феврале 1938 г. масонские ложи в Германии были запрещены. – Прим. пер.]
В отношении меня его ранняя смерть также уберегла от разочарования, что я, несмотря на аттестат о среднем образовании, после четырех с половиной лет военной службы вернулся с войны лишь мелким унтером, а не блестящим офицером. Хотя, быть может, это бы ему открыло глаза на то, что лучше иметь сына, вернувшегося с войны солдатом, но живым, чем сына офицера, «погибшего смертью героя».
Мое решение пойти добровольцем в Вермахт имеет мало общего с этими переживаниями и представлениями. Хотя я сначала тоже был воодушевлен блестящими победами над Польшей и Францией, причина записаться добровольцем заключалась прежде всего в моей не слишком успешной учебе в школе. Хотя она и была удовлетворительной, но обещала некоторые трудности в получении аттестата. Во время войны, будучи учеником выпускного класса, при поступлении в Вермахт я мог получить аттестат без экзаменов. В 17 лет я использовал эту возможность, записавшись добровольцем в Вермахт. Так, хотя я несколькими месяцами раньше моих одноклассников попал в Вермахт, но, как увидите позже, из-за очень долгой службы в запасной части на фронте я оказался не раньше их.
1 октября 1940 года я должен был надеть не серо-полевой мундир Вермахта, а коричневую форму трудовой службы. Первый лагерь трудовой повинности находился на опушке леса поблизости от деревушки Вурцельхофен под Регенсбургом, по тем условиям довольно далеко от дома. Здесь началась первая муштра.
Фюреры трудовой службы, определявшие мою жизнь в течение следующих двух месяцев, были пошлыми, иногда глупыми, не испорченными культурой людьми, вели себя примитивно и мелко. На вопрос фельдмайстера (лейтенанта): «Профессия?» я ответил: «Абитуриент». На что он заметил: «Никакой».
Под властью фюрера трудовой повинности: проверка сапог и униформы. Проверка, все ли гвозди в подметке на месте. Рабочие с лопатой носили в ранце и сухарной сумке все свое имущество.
Такое представление, что абитуриент – не профессия, хотя и было, по существу, верным, но не могло быть простым утверждением. Оно скорее отражало его предрассудки против социального слоя. Тому, кто позднее может стать немного «лучше», следовало не сильно, но вполне определенно показать, кто сейчас является настоящим господином. При этом фюреры трудовой службы были начальниками в не имеющей значения, более чем второсортной нацистской организации, которая Вермахтом вообще полностью не воспринималась. Позднее, во время рекрутского обучения в Вермахте, я нередко встречал такую реакцию на «профессию абитуриент». Но там уже не удовлетворялись упомянутым утверждением «никакая», а намекали абитуриенту приказом: «Ложись!», что сам он – «ничто». Все это было частью системы, постоянно унижавшей морально и воспитывавшей из нас безвольных солдат.
После начальной подготовки, заключавшейся в почти армейской строевой муштре, при которой вместо винтовки использовалась лопата, мы приступили к настоящей трудовой деятельности. Мы должны были работать в лесном хозяйстве князя Турн-унд-Таксиса. Работа включала валку деревьев, обрубку сучьев, распилку бревен, очистку их от коры и погрузку. Мы быстро поняли, что чистить стволы от коры и обрубать сучья гораздо легче, чем валить деревья. Каждое утро для нашего отряда кучей выкладывались инструменты. По команде мы бежали к ней и выбирали инструмент. Тот инструмент, который удавалось выхватить, и определял характер труда и весь рабочий день.
В группу вместе со мной попал мой друг из Фрайбурга. Каждое утро мы бежали к куче инструментов, чтобы выхватить из нее инструмент для более легкой работы не только для себя, но и для друга. Благодаря такому быстрому выбору в начале дня нам удавалось работать почти всегда вместе и выполнять работу полегче, которая была все же достаточно тяжелой для семнадцатилетних мальчишек. После шести недель трудовой повинности на лесоповале отряд перевели в окрестности Кама, где мы строили бараки для служащих-женщин. Там я получил повестку в Вермахт.
Удвоенное время службы рекрутом
Чтобы поступить в Вермахт, в декабре 1940 года я сначала приехал в Донауэшенген, находящийся в 60 километрах от моего родного Фрайбурга. На обширной территории казарм проходила подготовка рекрутов при 14-й истребительно-противотанковой пехотной роте 503-го полка, легкой истребительно-противотанковой роте. При поступлении в Вермахт каждый солдат получал медальон, который при переводе в другую часть не подлежал обмену или изменению. Его было необходимо всегда носить на шее. Прорези делили его на три части, чтобы в случае смерти владельца медальон можно было легко переломить. При этом одна половинка оставалась на погибшем, а другая служила для его идентификации и учета. На медальоне указывалась также группа крови. Мою группу крови тогда на медицинском освидетельствовании определили неточно как группу В и проставили на медальоне. Однако сегодня я знаю, что у меня группа AB, и поэтому мне повезло, что я избежал переливания крови и, таким образом, гемолитического кризиса.
Наряду с начальной подготовкой, к которой относились строевые приемы, проводилась и специальная подготовка – стрельба из 37-мм противотанковой пушки. Рекрутами были в основном мужчины старших возрастов – крестьяне, виноградари, ремесленники. Было и несколько абитуриентов.
Главный результат начальной подготовки заключался в том, что мы научились увиливать от службы. Для этого одного из рекрутов выставляли на удобном месте у парковых боксов, чтобы он наблюдал за «противником». Роль «противника» в данном случае отводилась офицеру. Пока он не появлялся, мы сидели и стояли вокруг пушки, практически ничего не делая. Только если приближался офицер, мы начинали прилежные учения с пушкой. Но поскольку офицеры проверяли занятия редко, то подготовка рекрутов проходила довольно приятно. В Донауэшенгене я встретил свое первое военное Рождество. За ним должны были последовать еще четыре, проведенные вдали от дома. На то первое Рождество я получил от шварцвальдского объединения рождественский подарок. Он состоял из рекламного журнальчика с рождественскими рассказами, карманного календаря и хорошего карандаша серебряного цвета из альпаки с надписью «Военное Рождество 1940 – Шварцвальдское объединение». Фрайбургский теннисный клуб тоже вспомнил о своих юниорах и прислал подарки. В последующие годы родина вынуждена была больше думать о себе самой и поэтому подарков на Рождество больше не присылала.
Несмотря на легкую службу в пехоте, однажды я записался добровольно в танковые войска. Во второй раз я записался добровольцем, и снова по вполне разумным причинам. Я думал так: «В пехоте надо много бегать, оставаться беззащитным на поле, мокнуть под дождем». А поскольку в Донауэшенгене стояла холодная зима, было легко представить, как мерзнут зимой в пехоте. «Напротив, в танковых войсках ты защищен, тебе не надо ходить пешком, а после боя ты едешь на танке в тыл, в безопасный район».
Позднее, когда я уже служил в танковых войсках, я много раз спрашивал себя, не перевестись ли мне в войска СС? Что ждало солдат в войсках СС?
«Солдатское радио» между солдатами разных частей во время войны работало довольно хорошо. От того или иного солдата во время увольнительной, в отпуске или в поездке по железной дороге всегда можно было услышать множество полезных вещей. Так, например, было известно, что в войсках СС лучше вооружение. С середины войны войска СС в основном были вооружены танками «пантера» и «тигр». А это означало, что, в отличие от танка IV, применявшегося преимущественно в Вермахте, у них лучшие пушки, определявшие во время танковой атаки, получит ли решающее поражение противник или ты сам. Это означало и лучшее бронирование, и, таким образом, лучшую защищенность. Обмундирование тоже было лучше, как я в этом убедился сам во время поездки с товарищем в танковую часть СС в России. У меня, например, зимой в России не было валенок, так как моего размера не было на складе. В войсках СС представить такое было невозможно. Питание тоже у них было лучше. В конце концов, мое решение, не переводиться в войска СС определилось мыслью, что войска СС представляют собой продолжение организации юнгфольк, или гитлерюгенда для взрослых. Это мне не нравилось. Но такое мое решение пока не определялось политикой, потому что мы, солдаты, считали служащих в войсках СС тоже солдатами.
Итак, я решил пойти в танковые войска, и 1 января 1941 года был направлен в 7-й танковый батальон в Бёблинген. Там начался мой второй рекрутский срок, совершенно не такая служба, которая была раньше. Она была ужасной! Через пару дней я написал матери о том, как мечтаю о спокойном Донауэшенгене. А потом я как о чем-то особенно приятном вспоминал о школе, когда учитель латыни иногда ругал меня гнусавым голосом: «Бётгер, разве это латынь? Иди мастеровым мостить улицы! Будешь до старости работать всегда на свежем воздухе!»
Теперь я испытал такую военную муштру, которую просто считал невозможной. Мы сразу же выучили отрывистые «Так точно!», «Смирно!», «Есть!». Потом нас запугали, замучили, задергали командами, выдрессировали и деморализовали. По три часа мы маршировали в надетых противогазах и при этом должны были непрерывно петь песню «Как прекрасно быть солдатом!». Потом над нами издевались над каждым в отдельности или над целыми группами сразу. Во время занятий на технике один из рекрутов хотел укрепить на танке магнитную лампу. Она упала, а рекрут ругнулся: «Вот дрянь!» Инструктор унтер-офицер приказал ему встать «смирно», гладить лампу, словно собаку, и при этом приговаривать: «Я больше никогда не буду называть тебя дрянью!» Так он потом и стоял в танковом боксе с лампой в руке, гладил ее и непрестанно приговаривал: «Я больше никогда не буду называть тебя дрянью!»
Рядом с нашим кубриком в казарме была комната унтер-офицера. Когда ему вечером нужны были пиво или сигареты из буфета, или нужно было почистить сапоги или куртку, или еще чего-нибудь, он просто стучал кулаком в стену. Немедленно один из рекрутов должен был постучаться в его дверь, представиться по званию и фамилии, в готовности выполнить его приказ. Часто находившиеся в помещении не могли договориться, чья очередь выполнять приказ, начинали спорить. И если через несколько секунд после стука никто не входил в комнату унтер-офицера, то он появлялся сам со злобной физиономией и начинал:
– Что, никто не хочет?
Потом следовала ругань и какой-нибудь приказ вроде:
– Всем построиться в коридоре с табуретками «на караул»!
Через минуту мы стояли в коридоре с табуретками в вытянутых руках. Затем он гонял нас по казарме, постоянно командуя «ложись!» и «смирно!». Потом мы должны были подниматься по казарменной лестнице на получетвереньках с табуретками в руках, то есть опираясь только на колени и локти. Другой любимой ответной реакцией того унтер-офицера, авторитет которого основывался только на галуне, нашитом на воротник, была игра в «сарасани», или в «бал-маскарад», которую он считал веселой, и лицо его расплывалось в широкой ухмылке. При игре в «сарасани» рекруты должны были быстро переодеваться из полевой формы в повседневную, затем в спортивный костюм, потом в танкистскую форму, а потом – в парадно-выходную. Ее пестрые обшлага, петлицы и серебряные пуговицы делали ее похожей на костюм циркового укротителя, поэтому солдаты прозвали ее по названию цирка «Сарасани».
На наш взгляд, бесчеловечная тирания, естественно, не имела ничего общего с военной подготовкой или воплощением идеологической доктрины. Она была скорее выражением жестокого и недостойного воспитания солдат. Прусские военные «добродетели», такие как точность, дисциплинированность, стойкость, пагубно соединились здесь с требованиями Гитлера «к лучшему солдату мира». Можно легко себе представить, как тот же воинственный унтер-офицер, направленный служить в другое место, например в охрану концлагеря, опьяненный предоставленной ему властью над жизнью и смертью, быстро превратится в палача.
В страхе и неопределенности проходили каждый раз поверки. Все, что находилось в казарме, начиная от пола, столов, табуретов, кроватей, шкафов и кончая самими солдатами, могло быть в любой момент проверено на чистоту и порядок. Так проверялось, чтобы солдат не только заправлял постель, но и чтобы подушки и одеяла были выровнены по ниточке. Каждый раз мы сбрызгивали водой пододеяльники, чтобы их можно было разгладить. Тем не менее то, как мы заправляли постели, никогда не нравилось нашему унтер-офицеру, взводному фельдфебелю или главному фельдфебелю – старшине. Тогда все, из чего состояли постели: одеяла, простыни, солома из матрасов – разлеталось по казарменному помещению. Как-то раз во время проверки шкафов, когда я в дрожащих вытянутых руках представлял на проверку ботинки, фельдфебель заорал на меня:
– И это вы называете чистить?
Потом он тут же распахнул окно, схватил мои ботинки и выбросил их во двор с третьего этажа. В другой раз я видел осмотр шкафов солдат, выбранных кандидатами на учебу в офицерской школе. Молодые солдаты должны были на плечах нести довольно тяжелые шкафы на плац, чтобы предъявить их для проверки. Все содержимое этих шкафов, конечно же, попадало и перемешалось, и это дало командирам возможность продемонстрировать всю свою силу. Таким образом, молодые солдаты, которые вскоре сами смогут отдавать приказы унтер-офицерам, были «выведены на показ».
Прежде чем покинуть помещение, мы должны были всегда запирать шкаф. Если он оставался открытым, то это был проступок – «совращение на кражу у товарища» и за него наказывали. По логике, которую я, как и многое другое во время этой подготовки рекрутов, так и не смог понять.
Впервые через пять месяцев службы я смог получить разрешенный, то есть подписанный командиром роты, отпуск на субботу и воскресенье во Фрайбург. До этого, правда, я получал увольнительные, с которыми можно было уезжать не далее 50 километров от части. И я вынужден был отказаться от этого отпуска из-за винтовки! Дело в том, что когда ходишь по земле, пыль так или иначе попадает в канал ствола твоей винтовки. При завершающей проверке чистоты унтер-офицер под конец одним глазом глянул в ствол винтовки, которую я держал, как положено по команде «оружие к осмотру!» стволом к небу, и заявил:
– В твоем стволе сидит целая толпа слонов!
Пришлось снова чистить винтовку. И пока удалось снова представить почищенную винтовку унтер-офицеру, время ушло. Его расчет был точен. Когда я прибежал на платформу вокзала, то увидел замыкающие огни уходящего поезда. От бешенства слезы брызнули у меня из глаз. Я был сильно раздосадован.
В следующий раз, хотя командир роты и подписал мой рапорт на отпуск, но, словно учитель в школе, исправил его красным карандашом. В школе мы, как тогда было принято, изучали немецкую (готическую) каллиграфию и наряду с ней – латинскую, для уроков латинского языка. Я привык на письме перемежать готические буквы латинскими. Хотя мое прошение об отпуске и было принято, но «ошибочные» буквы были почерканы красным карандашом. Таким образом, командир роты показал абитуриенту, этому «ничто», что тот, несмотря на восемь лет гимназии, не умеет правильно писать по-немецки.
Иногда, в зависимости от настроения главного фельдфебеля, утренний осмотр превращался в издевательства с непредсказуемыми придирками. Ему, например, могло показаться, что пряжка ремня недостаточно блестит, что неправильно повязан галстук или что он недостаточно чист, что волосы недостаточно коротко пострижены. Или, как уже упоминалось, ему просто попадался абитуриент – сразу же следовало наказание в виде многочисленных «лечь – встать», «прыжков по-заячьи» или бега вокруг казармы. Мне особенно запомнился тщедушный солдатик, который в полной выкладке, то есть в стальном шлеме, с ранцем и винтовкой, должен был карабкаться на высокий ящик с песком, который был установлен перед окнами полуподвала с целью защиты от разрывов авиабомб. Забравшись наверх, он должен был встать по стойке «смирно» и кричать: «Я – позор для германского Вермахта!» На что главный фельдфебель хладнокровно повторял приказ: «Громче!» Это продолжалось до тех пор, пока бедный малый совсем охрип. Вид этого маленького солдата на ящике с песком, запуганного, чуть не плачущего, из последних сил пытающегося достаточно громко крикнуть, был очень жалким. Его вынужденное признание было скорее позором для Вермахта.
Особенно несправедливым я считал наказание за плохую стрельбу. Наша рота на танковых стрельбах действительно плохо стреляла. Причина неудачи этих стрельб заключалась не в самом подразделении, а в постановке задачи и в приказах руководившего унтер-офицера. Упражнение заключалось в том, чтобы из пулемета, установленного на танке типа I, едущем по неровной бетонированной дороге, на участке, ограниченном флажками, сделать 25 выстрелов по круглому щиту с нарисованным в полный рост солдатом. Из едущего танка можно было смотреть только в прицел. Можно легко себе представить, что когда танк едет по неровной дороге, то неподвижно закрепленный в его башне пулемет направлен то на дорогу, то в небо. Так получилось и у меня, когда я сидел в танке на месте стрелка. Первый флажок уже давно проехали, и я должен был открыть огонь по цели. Но так как я ее не видел, то и не стрелял. Тут начал кричать унтер-офицер:
– Стреляйте же наконец!
Но я по-прежнему не видел цели. Почему я должен был стрелять, не видя ее? Это был мой первый мелкий отказ выполнить приказ. Но тут вдруг цель показалась точно в перекрестье прицела, я нажал на спуск, и все 25 пуль попали точно в мишень. Если бы я, следуя приказу, «наконец», то есть раньше времени, открыл огонь, то у меня, как и у других рекрутов, все пули попали бы в дорогу или ушли в небо.
Обучение проводилось на танках типа I. Унтер-офицер инструктор во время полевых занятий
Из-за того, что почти все рекруты в таких условиях промазали по цели, все должны были не продолжать тренироваться в стрельбе, а в наказание в воскресенье после обеда четыре часа заниматься строевой подготовкой. Во время нее все 150 рекрутов роты маршировали в одной шеренге, то есть в один растянутый ряд один возле другого. Но настоящее наказание началось, когда последовали приказы о быстром изменении направления: два или три раза «правое плечо вперед марш!» и «левое плечо вперед марш!». При этом, в зависимости от поданной команды, крайний марширующий солдат должен был относительно быстро поворачиваться на 180 градусов на месте, а остальные, словно спица колеса, в зависимости от своего удаления от него, быстро идти или почти бежать. Как только выравнивали строй в указанном направлении, следовал новый приказ. Через четыре часа таких занятий мы были совершенно измотаны и озлоблены. Примечательные слова нашего командира роты, которыми он подбадривал рекрутов во время учебы: «Рекрутское время – самое лучшее время жизни» – вскоре превратились в обычное глумление.
30 мая 1941 года часть прощалась с командиром батальона. По этому поводу был устроен помпезный парад, как в мирное время. Но в таком гарнизонном городишке, как Бёблинген, война была еще незаметна.
Во время тяжелой службы небольшие минуты отдыха сначала использовались для написания писем, а иногда удавалось получить увольнение в гарнизонный город Бёблинген. Тогда чаще всего мы ходили в кафе. Вопреки заявлению Гитлера о том, что каждый должен иметь свой «народный радиоприемник», в бёблингенской казарме никакого радио у рекрутов не было. Особенными развлекательными мероприятиями были посещения кино, где рекруты с удовольствием смотрели фильмы киностудии УФА.
На выходе из казарм у солдат, идущих в увольнение, дежурный требовал предъявить солдатскую книжку, расческу и презерватив (что было особенно важно, так как за заболевание венерической болезнью всегда следовало строгое взыскание). Без этих предметов выйти было невозможно.
9 марта 1941 года меня отпустили в отпуск в Штутгарт, на международный футбольный матч Германия – Швейцария. После многонедельной жизни в казарме было особым удовольствием перед игрой пройти мимо шикарных магазинов по штутгартской Кёнигштрассе. Но что особенно осталось у меня в памяти, что все прохожие, не считая хорошеньких женщин, почти все оказывались начальниками. Мне почти непрерывно приходилось поднимать правую руку к пилотке, чтобы то и дело приветствовать унтер-офицеров, фельдфебелей или офицеров, шедших навстречу.