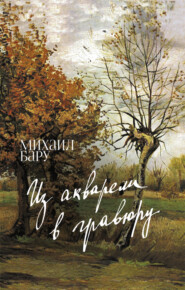По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мещанское гнездо
Автор
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мещанское гнездо
Игорь Анатольевич Сакуров
Михаил Борисович Бару
Русская литература (Захаров)
Любить нашу родину по-настоящему, при этом проживая в самой ее середине (чтобы не сказать – глубине), – дело непростое, написала как-то Галина Юзефович об авторе, чью книгу вы держите сейчас в руках. И с каждым годом и с каждой изданной книгой эта мысль делается все более верной и – грустной?..
Михаил Бару, лауреат премии им. Исаака Бабеля (2019), родился в 1958 году, окончил МХТИ, работал в Пущино, защитил диссертацию и, несмотря на растущую популярность и убедительные тиражи, продолжает работать по специальности, любя химию, да и не слишком доверяя писательству как ремеслу, способному прокормить в наших пенатах.
Если про Моне можно сказать, что он пишет свет, про Михаила Бару можно сказать, что он пишет – тишину. Во всяком случае, когда читаешь его миниатюры, белый шум, сопровождающий тебя всю жизнь, куда-то исчезает, начинаешь дышать глубже и словно заворачиваешься в невесомое и теплое одеяло. Дача, деревня, печка и рецепт рябиновки, летний вечер в городе, специальные музейные старушки – и тут же рассказ о том, что было бы, женись Александр Сергеевич не на Наталье, а на Анне Николаевне… Путешествие, которое можно начать в любую минуту и с любого места.
Михаил Бару
Мещанское гнездо
© Михаил Бару, автор, 2017
© Игорь Сакуров, художник, 2019
© «Захаров», 2020
* * *
Предисловие автора
И вот ты сидишь в саду, на складном стульчике, возле пруда размером с ванночку для купания грудного ребенка, и у тебя в руках большая кружка с чаем, в который положено две столовых ложки черничного варенья. Ласковый ветерок шевелит остатки волос на твоей голове, за забором мычит чей-то теленок, не желающий идти домой, и где-то далеко, через три дома, монотонно жужжит газонокосилка. Ты смотришь, как на куст пионов прилетела пчела и, точно слепая, ощупывает каждый еще не раскрывшийся бутон всеми шестью ногами. Вот прилетела еще одна и вдруг… откуда-то из самого сердца живота, из размазанного пятна от черничного варенья между пятой и шестой полосками на полинялой дачной футболке, внутренний голос тебе тихо, но твердо говорит:
– Это твое счастье, мужик.
Ты начинаешь кипятиться, возражать ему, как же так, причем здесь пруд, черничное варенье, в том смысле, что крыжовник, три аршина земли и все такое для счастья, то есть для земного шара, научных открытий, космических кораблей и полетов к другим галактикам ни в коем случае не помеха. Произошла какая-то ужасная ошибка. Ты сейчас, сейчас принесешь чертеж ракеты или научную статью, которую ты написал почти наполовину или даже на две трети и, честное слово, допишешь сегодня же или завтра, но… голос неумолим.
Ты дрогнувшим голосом спрашиваешь:
– И это всё?
– И это всё, да. И сад, и пионы, и пчелы, и черничное варенье, и ласковый ветер, и грядка с укропом, и грядка с клубникой, и ранняя редиска, и своя картошка без удобрений, и подвал, полный банок с солеными огурцами и помидорами, и квашеная капуста, щи из нее…
– И это всё?!
– И еще трехлитровая бутыль с рябиновой настойкой.
– Но статья… и чертежи…
– Хорошо. Пятилитровая.
Ты снова доказываешь, захлебываясь словами, умоляешь и чуть не плачешь…
– Милый, – трогает тебя за плечо жена, пришедшая в сад срезать цветов для букета на обеденном столе, – ты всхлипывал во сне. Не спи перед закатом. Будет потом весь вечер голова тяжелая.
Еще весь во власти своего сна, ты пытаешься объяснить ей про счастье, про внутренний голос, идущий из сердца живота, про спор с Большим Черничным Пятном между полосками… Она смотрит на тебя и спрашивает:
– И давно это у тебя? Давно ты разговариваешь со своим животом?
Ты устало машешь рукой и замолкаешь.
– Пойдем в дом, – ласково говорит жена. – Я наварила на ужин молодой картошки с укропом, нажарила куриных котлет и поставила в морозилку…
– Кот-ле-ты… – медленно, по складам, произносишь ты. – Я так люблю твои котлеты. Особенно сухарную панировку – она такая сочная и хрустящая…
И ты идешь в дом, а по пути рвешь с грядки зеленый лук к ужину.
Мещанское гнездо
Так они сидели у железной печки и пререкались по-зимнему…
Юрий Коваль
Весенние слова, а летние тем более – самые легкие из всех слов на свете. Легче воздуха и даже гелия, которым надувают шарики. И такие же разноцветные. Они и состоят-то почти из одних только гласных, а согласные в них если и есть, то звонкие. Весенние слова, а летние тем более, чаще всего и не выговаривают даже, а выдыхают. Только успел губы приоткрыть, как оно уже упорхнуло. Только хвостик «лю» и мелькнул перед глазами. Чтобы весенних, а тем паче летних слов хватило для разговора хотя бы двух человек, а тем более для шепота, надо их выдыхать постоянно.
Не то осенние слова. Эти не выдохнешь – языком надо выталкивать. Да и вытолкнешь – вверх не полетят. Будут кружить вокруг медленно, точно сонные мухи, и потом долго падать в опавшие листья и ледяные лужи. А то вдруг занесет их ветром в ухо. Да еще и обидные. Скачи потом на одной ноге долго, пока не вытрясешь.
Зимние слова и вовсе могут лежать за щекой целый день. С ними и заснуть можно ненароком. Уже и ферменты растворят их окончания и даже суффиксы, уже и корень их побелеет, сморщится и потеряет всякую силу, а всё они лежат, как мертвые, за щекой или с трудом ворочаются на языке, а все равно не выговариваются. Походишь с ними, походишь – да и выплюнешь куда-нибудь в сугроб от греха подальше.
* * *
Если при строительстве дачи, по недосмотру или по каким-либо другим причинам, не положить в ее основание том рассказов или пьес Чехова, то вишни в саду будут расти плохо, ягоды будут кислыми, наливка из них нехороша, у самовара прогорит труба, свежезаваренный чай будет пахнуть вениками, ватрушки не пропекутся, в них будет мало изюма, гости приедут скучные, разговаривать станут не о небе в алмазах, не о полете на Марс и не о стихах Бродского, а как начнут про навоз, ипотечный процент, продажу своей подержанной машины, камни в почках и анализы мочи – так их и не остановишь до тех пор, пока комары всех не прогонят спать в душные комнаты. Мало того, еще и на ночь глядя вас в смородиновых кустах за деревенским туалетом будет хватать за руки и говорить о внезапно вспыхнувшей животной страсти какая-то приехавшая вместе с гостями полузнакомая и полусумасшедшая дама, унизанная серебряными кольцами с головы до ног, перепачкает вам лицо противной жирной помадой, которую вы, пытаясь стереть, размажете по всему телу, а выросшая как из-под земли жена…
В конце концов вам все это надоест и вы, вместо того чтобы наслаждаться пением соловьев, прохладой, неторопливой беседой о судьбах русской литературы, чтением старых журналов, потрепанных книжек с повестями Тургенева и рассказами Чехова, купите по приказу-совету жены тур в Таиланд, и там, обливаясь потом, мучаясь изжогой после обеда с супом «том ям», покупая жене бесчисленные серьги, браслеты для рук и ног в количестве, которого хватило бы на десяток Шив, сувенирных слоников из сандалового дерева, вы будете себя ругательски ругать за то, что при закладке фундамента дачи поленились сами положить Чехова, а поручили это сделать рабочим или их бригадиру, или жене, которая командовала бригадиром, рабочими и вами и которая теперь примеряет расшитые блестками бархатные тапки с загнутыми вверх носами такой остроты, что от одного их вида у вас колет в правом боку.
* * *
За окном стоит зима. Вернее, она стояла бы, кабы трещал мороз, кабы звенел воздух, кабы шел снег… но трещат только сороки на железных ветках телеграфных столбов. Снег шел, да и вышел весь, а вместо него идет, сам не зная куда, дождь. Еще и падает, точно пьяный. А потому зима за окном не стоит, а ползает по серой перловой каше сугробов, валяется в черных лужах и вымаливает на снег у тонких и ноздреватых, блинных облаков. В такую погоду хорошо напиться черного, смолистого чаю с пухлыми, румяными плюшками, покрытыми слюдяной корочкой расплавленного сахара, сесть у окна, надышать на холодное стекло дальний очарованный берег и, качая страусиными перьями в голове, рисовать на нем цветущие бездонные очи.
* * *
Зимним вечером в пятницу изцентрастремительно выскакиваешь из метро, мечешься по вокзальным перронам, вваливаешься в полутемный и полусонный вагон пригородной электрички, пропахший чебуреками, пивом, сигаретным дымом, тянущимся из тамбура, смотришь на бесконечный свет бесконечных вывесок за окном, сквозь который пробиваются крошечные битые пиксели морозной темноты, потом их становится больше и свет распадается на круги фонарей и квадраты окон, потом окна с их шторами, кошками и столетниками на подоконниках понемногу отстают и на платформе какого-нибудь сорок восьмого или сто второго километра одинокий колченогий фонарь стоит по колено в снегу и даже не пытается подойти посветить к открывшейся с воздушным шипением двери, из которой ты выходишь в такую непроглядную тьму, что в ней синуса от косинуса не отличить, спускаешься, чертыхаясь по обледенелым ступенькам, идешь по узкой тропинке меж высоких сугробов, сопровождаемый лаем собак, долго гремишь жгучим от холода замком на двери дома, долго обметаешь в сенях снег с ботинок, включаешь свет, замерзший в лампочке за три месяца твоего отсутствия до состояния мелкой, крупитчатой пыли, садишься в старое продавленное кресло перед печкой, кладешь в нее измятые старые газеты, поверх них березовую кору, поверх коры дрова, зажигаешь спичку и, глядя на то, как разгорается огонь, чувствуешь… но сказать не умеешь, а откупориваешь привезенный с собой коньяк, набиваешь трубку табаком, как следует уминаешь его указательным пальцем, закуриваешь, выпускаешь один большой клуб дыма и два поменьше и чувствуешь… но сказать не умеешь, а только смотришь и слушаешь, как разгорается в печке огонь, как трещат сухие березовые поленья, как свет в лампочке оттаивает, превращаясь из корпускул в волну, как под полом лихорадочно шуршит, будя детей, голодная, точно волк, мышь, многодетная семья которой уж и не чаяла дождаться твоего недоеденного бутерброда с копченой колбасой и чувствуешь… но засыпа…
* * *
Декабрь без снега – зима на ветер. Да и ветра, если честно, нет никакого. Туман промозглый до самых мелких и тонких костей. Поседевшая от неопределенности трава. По утрам осколки разбитых вдребезги луж. И поле, и лес, и проселок с окаменевшей в судорогах колеей выглядят точно оставленная своими деревня, в которую еще не вошел наступающий неприятель. Валяются брошенные при отступлении бурые листья, чернеют заломленные в тоске ветки осин и лип. Неприятеля уже устали ждать и бояться. А он и не думает приходить – то ли успел наступить на что-нибудь другое, то ли деньги кончились, то ли плюнул и вернулся восвояси. Далась ему эта деревня…
* * *
Перво-наперво наделаю себе бутербродов с любительской колбасой и плавленым сыром. Любительская колбаса с мелким шпиком, доложу я вам, лучше любой копченой, если, конечно, вы собираетесь писать, а не читать. Особенно, если на нее положить половинку соленого или свежего огурца. Потом беру маленький, пол-литровый термос и наливаю в него чай.
Жена смотрит на мои приготовления и спрашивает:
– Ты насколько уезжаешь? На неделю?
Игорь Анатольевич Сакуров
Михаил Борисович Бару
Русская литература (Захаров)
Любить нашу родину по-настоящему, при этом проживая в самой ее середине (чтобы не сказать – глубине), – дело непростое, написала как-то Галина Юзефович об авторе, чью книгу вы держите сейчас в руках. И с каждым годом и с каждой изданной книгой эта мысль делается все более верной и – грустной?..
Михаил Бару, лауреат премии им. Исаака Бабеля (2019), родился в 1958 году, окончил МХТИ, работал в Пущино, защитил диссертацию и, несмотря на растущую популярность и убедительные тиражи, продолжает работать по специальности, любя химию, да и не слишком доверяя писательству как ремеслу, способному прокормить в наших пенатах.
Если про Моне можно сказать, что он пишет свет, про Михаила Бару можно сказать, что он пишет – тишину. Во всяком случае, когда читаешь его миниатюры, белый шум, сопровождающий тебя всю жизнь, куда-то исчезает, начинаешь дышать глубже и словно заворачиваешься в невесомое и теплое одеяло. Дача, деревня, печка и рецепт рябиновки, летний вечер в городе, специальные музейные старушки – и тут же рассказ о том, что было бы, женись Александр Сергеевич не на Наталье, а на Анне Николаевне… Путешествие, которое можно начать в любую минуту и с любого места.
Михаил Бару
Мещанское гнездо
© Михаил Бару, автор, 2017
© Игорь Сакуров, художник, 2019
© «Захаров», 2020
* * *
Предисловие автора
И вот ты сидишь в саду, на складном стульчике, возле пруда размером с ванночку для купания грудного ребенка, и у тебя в руках большая кружка с чаем, в который положено две столовых ложки черничного варенья. Ласковый ветерок шевелит остатки волос на твоей голове, за забором мычит чей-то теленок, не желающий идти домой, и где-то далеко, через три дома, монотонно жужжит газонокосилка. Ты смотришь, как на куст пионов прилетела пчела и, точно слепая, ощупывает каждый еще не раскрывшийся бутон всеми шестью ногами. Вот прилетела еще одна и вдруг… откуда-то из самого сердца живота, из размазанного пятна от черничного варенья между пятой и шестой полосками на полинялой дачной футболке, внутренний голос тебе тихо, но твердо говорит:
– Это твое счастье, мужик.
Ты начинаешь кипятиться, возражать ему, как же так, причем здесь пруд, черничное варенье, в том смысле, что крыжовник, три аршина земли и все такое для счастья, то есть для земного шара, научных открытий, космических кораблей и полетов к другим галактикам ни в коем случае не помеха. Произошла какая-то ужасная ошибка. Ты сейчас, сейчас принесешь чертеж ракеты или научную статью, которую ты написал почти наполовину или даже на две трети и, честное слово, допишешь сегодня же или завтра, но… голос неумолим.
Ты дрогнувшим голосом спрашиваешь:
– И это всё?
– И это всё, да. И сад, и пионы, и пчелы, и черничное варенье, и ласковый ветер, и грядка с укропом, и грядка с клубникой, и ранняя редиска, и своя картошка без удобрений, и подвал, полный банок с солеными огурцами и помидорами, и квашеная капуста, щи из нее…
– И это всё?!
– И еще трехлитровая бутыль с рябиновой настойкой.
– Но статья… и чертежи…
– Хорошо. Пятилитровая.
Ты снова доказываешь, захлебываясь словами, умоляешь и чуть не плачешь…
– Милый, – трогает тебя за плечо жена, пришедшая в сад срезать цветов для букета на обеденном столе, – ты всхлипывал во сне. Не спи перед закатом. Будет потом весь вечер голова тяжелая.
Еще весь во власти своего сна, ты пытаешься объяснить ей про счастье, про внутренний голос, идущий из сердца живота, про спор с Большим Черничным Пятном между полосками… Она смотрит на тебя и спрашивает:
– И давно это у тебя? Давно ты разговариваешь со своим животом?
Ты устало машешь рукой и замолкаешь.
– Пойдем в дом, – ласково говорит жена. – Я наварила на ужин молодой картошки с укропом, нажарила куриных котлет и поставила в морозилку…
– Кот-ле-ты… – медленно, по складам, произносишь ты. – Я так люблю твои котлеты. Особенно сухарную панировку – она такая сочная и хрустящая…
И ты идешь в дом, а по пути рвешь с грядки зеленый лук к ужину.
Мещанское гнездо
Так они сидели у железной печки и пререкались по-зимнему…
Юрий Коваль
Весенние слова, а летние тем более – самые легкие из всех слов на свете. Легче воздуха и даже гелия, которым надувают шарики. И такие же разноцветные. Они и состоят-то почти из одних только гласных, а согласные в них если и есть, то звонкие. Весенние слова, а летние тем более, чаще всего и не выговаривают даже, а выдыхают. Только успел губы приоткрыть, как оно уже упорхнуло. Только хвостик «лю» и мелькнул перед глазами. Чтобы весенних, а тем паче летних слов хватило для разговора хотя бы двух человек, а тем более для шепота, надо их выдыхать постоянно.
Не то осенние слова. Эти не выдохнешь – языком надо выталкивать. Да и вытолкнешь – вверх не полетят. Будут кружить вокруг медленно, точно сонные мухи, и потом долго падать в опавшие листья и ледяные лужи. А то вдруг занесет их ветром в ухо. Да еще и обидные. Скачи потом на одной ноге долго, пока не вытрясешь.
Зимние слова и вовсе могут лежать за щекой целый день. С ними и заснуть можно ненароком. Уже и ферменты растворят их окончания и даже суффиксы, уже и корень их побелеет, сморщится и потеряет всякую силу, а всё они лежат, как мертвые, за щекой или с трудом ворочаются на языке, а все равно не выговариваются. Походишь с ними, походишь – да и выплюнешь куда-нибудь в сугроб от греха подальше.
* * *
Если при строительстве дачи, по недосмотру или по каким-либо другим причинам, не положить в ее основание том рассказов или пьес Чехова, то вишни в саду будут расти плохо, ягоды будут кислыми, наливка из них нехороша, у самовара прогорит труба, свежезаваренный чай будет пахнуть вениками, ватрушки не пропекутся, в них будет мало изюма, гости приедут скучные, разговаривать станут не о небе в алмазах, не о полете на Марс и не о стихах Бродского, а как начнут про навоз, ипотечный процент, продажу своей подержанной машины, камни в почках и анализы мочи – так их и не остановишь до тех пор, пока комары всех не прогонят спать в душные комнаты. Мало того, еще и на ночь глядя вас в смородиновых кустах за деревенским туалетом будет хватать за руки и говорить о внезапно вспыхнувшей животной страсти какая-то приехавшая вместе с гостями полузнакомая и полусумасшедшая дама, унизанная серебряными кольцами с головы до ног, перепачкает вам лицо противной жирной помадой, которую вы, пытаясь стереть, размажете по всему телу, а выросшая как из-под земли жена…
В конце концов вам все это надоест и вы, вместо того чтобы наслаждаться пением соловьев, прохладой, неторопливой беседой о судьбах русской литературы, чтением старых журналов, потрепанных книжек с повестями Тургенева и рассказами Чехова, купите по приказу-совету жены тур в Таиланд, и там, обливаясь потом, мучаясь изжогой после обеда с супом «том ям», покупая жене бесчисленные серьги, браслеты для рук и ног в количестве, которого хватило бы на десяток Шив, сувенирных слоников из сандалового дерева, вы будете себя ругательски ругать за то, что при закладке фундамента дачи поленились сами положить Чехова, а поручили это сделать рабочим или их бригадиру, или жене, которая командовала бригадиром, рабочими и вами и которая теперь примеряет расшитые блестками бархатные тапки с загнутыми вверх носами такой остроты, что от одного их вида у вас колет в правом боку.
* * *
За окном стоит зима. Вернее, она стояла бы, кабы трещал мороз, кабы звенел воздух, кабы шел снег… но трещат только сороки на железных ветках телеграфных столбов. Снег шел, да и вышел весь, а вместо него идет, сам не зная куда, дождь. Еще и падает, точно пьяный. А потому зима за окном не стоит, а ползает по серой перловой каше сугробов, валяется в черных лужах и вымаливает на снег у тонких и ноздреватых, блинных облаков. В такую погоду хорошо напиться черного, смолистого чаю с пухлыми, румяными плюшками, покрытыми слюдяной корочкой расплавленного сахара, сесть у окна, надышать на холодное стекло дальний очарованный берег и, качая страусиными перьями в голове, рисовать на нем цветущие бездонные очи.
* * *
Зимним вечером в пятницу изцентрастремительно выскакиваешь из метро, мечешься по вокзальным перронам, вваливаешься в полутемный и полусонный вагон пригородной электрички, пропахший чебуреками, пивом, сигаретным дымом, тянущимся из тамбура, смотришь на бесконечный свет бесконечных вывесок за окном, сквозь который пробиваются крошечные битые пиксели морозной темноты, потом их становится больше и свет распадается на круги фонарей и квадраты окон, потом окна с их шторами, кошками и столетниками на подоконниках понемногу отстают и на платформе какого-нибудь сорок восьмого или сто второго километра одинокий колченогий фонарь стоит по колено в снегу и даже не пытается подойти посветить к открывшейся с воздушным шипением двери, из которой ты выходишь в такую непроглядную тьму, что в ней синуса от косинуса не отличить, спускаешься, чертыхаясь по обледенелым ступенькам, идешь по узкой тропинке меж высоких сугробов, сопровождаемый лаем собак, долго гремишь жгучим от холода замком на двери дома, долго обметаешь в сенях снег с ботинок, включаешь свет, замерзший в лампочке за три месяца твоего отсутствия до состояния мелкой, крупитчатой пыли, садишься в старое продавленное кресло перед печкой, кладешь в нее измятые старые газеты, поверх них березовую кору, поверх коры дрова, зажигаешь спичку и, глядя на то, как разгорается огонь, чувствуешь… но сказать не умеешь, а откупориваешь привезенный с собой коньяк, набиваешь трубку табаком, как следует уминаешь его указательным пальцем, закуриваешь, выпускаешь один большой клуб дыма и два поменьше и чувствуешь… но сказать не умеешь, а только смотришь и слушаешь, как разгорается в печке огонь, как трещат сухие березовые поленья, как свет в лампочке оттаивает, превращаясь из корпускул в волну, как под полом лихорадочно шуршит, будя детей, голодная, точно волк, мышь, многодетная семья которой уж и не чаяла дождаться твоего недоеденного бутерброда с копченой колбасой и чувствуешь… но засыпа…
* * *
Декабрь без снега – зима на ветер. Да и ветра, если честно, нет никакого. Туман промозглый до самых мелких и тонких костей. Поседевшая от неопределенности трава. По утрам осколки разбитых вдребезги луж. И поле, и лес, и проселок с окаменевшей в судорогах колеей выглядят точно оставленная своими деревня, в которую еще не вошел наступающий неприятель. Валяются брошенные при отступлении бурые листья, чернеют заломленные в тоске ветки осин и лип. Неприятеля уже устали ждать и бояться. А он и не думает приходить – то ли успел наступить на что-нибудь другое, то ли деньги кончились, то ли плюнул и вернулся восвояси. Далась ему эта деревня…
* * *
Перво-наперво наделаю себе бутербродов с любительской колбасой и плавленым сыром. Любительская колбаса с мелким шпиком, доложу я вам, лучше любой копченой, если, конечно, вы собираетесь писать, а не читать. Особенно, если на нее положить половинку соленого или свежего огурца. Потом беру маленький, пол-литровый термос и наливаю в него чай.
Жена смотрит на мои приготовления и спрашивает:
– Ты насколько уезжаешь? На неделю?