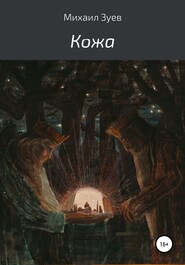По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кон-Тики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, если старый убежденный холостяк… вы, ведь, старый убежденный?.. – я кивнул, – если старый убежденный холостяк решает изменить себе, значит, все серьезно. Так? – я кивнул снова. Этот большой человек начинал мне определенно нравиться. – Всюду деньги, деньги, деньги, всюду деньги, господа… Ну, ладно… – Николай Васильевич снял очки, положил на стол, зажмурился, потер веки, открыл глаза. Без очков взгляд его оказался по-детски беззащитным. – Ладно, вы, Стёпа. Можно вас так называть? – Я поспешно кивнул. – Ладно, вы. А как же ваша избранница? Только обретет мужа, и вот уже вам – звон склянок, и карета в тыкву, и раскинулось море широко…
– Мы справимся, – твердо сказал я.
– То, что вы справитесь, я не сомневаюсь. А она?! Вы в поход – в море, наполненное морем новых впечатлений. Это потом, года через два спустя, вам все обрыднет, а пока – пока будет ново и интересно. О вас не беспокоюсь. А она останется одна. Не боитесь?
– Боюсь, – очень тихо сказал я.
– Так какого черта?! – подался вперед начмед.
– Нам помочь некому. Мы всё сами. Нам деньги нужны. Очень.
– Хотите чаю? – после длинной паузы спросил Николай Васильевич.
Мы пили чай с ватрушками, появившимися из начмедовского стола. Васильич поглядывал на меня светло и ласково.
– Я поначалу думал, не возьму тебя. Знаешь, почему? – Я мотнул головой. – Переквалификация у тебя. Нам люди такой высокой квалификации в плавсоставе не нужны. Нам бы там чего попроще. Я бы тебя к себе сюда взял.
Я напрягся.
– Да ладно, не дрейфь. Успокойся. Понимаю твою ситуацию. Тут у нас валюты-то и таких окладов как своих ушей не увидать. Но только помни: ты Русалочкой будешь.
– Это как? – спросил я.
– Да так. Русалочка – она что? Хвост потеряла, ножки обрела. А дара речи лишилась.
– А я?
– Ты – денег поднимешь. А квалификацию свою растеряешь.
– Как так, Николай Васильевич?
– Да просто все как божий день, Стёпа. Послушай, что скажу. К нам во флотскую медицину по объявлениям в газетах не попадают. Почему? Да потому что нет в природе таких объявлений. Если их давать, косяком пойдут романтики и прочие идиоты. Как их отсеивать? Поэтому у нас только по рекомендации, по наводке тех, кто уже работает. Чтобы человек мог поручиться за новичка, что тот без закидонов. У нас ведь как? Система хитрая. Двойное подчинение. Ты, с одной стороны, врач, и подчиняешься начмеду бассейна. А, с другой, ты помкапитана, и подчиняешься… – он вопросительно взглянул на меня.
– Капитану, – закончил я фразу.
– Молодец, – улыбнулся начмед. – И вот тут-то собака и порылась. Если ты капитану не понравишься, если терки с ним какие, проблемы, он, ведь, с тобой церемониться не будет, он тебя с судна спишет прямо посреди рейса, – и все дела.
– За борт, что ли?
– За борт – это, в крайнем случае, – засмеялся Николай Васильевич. – Разжалует в пассажиры. И будешь сидеть в кубрике – никем и ничем. Без денежного довольствия и на баланде, до ближайшего порта советской юрисдикции. А если поход на полгода и наших берегов не видать, так и просидишь все полгода. Были случаи.
– Какие случаи, Николай Васильевич?
– Малохорошие. Когда коса на камень. У нас же какая основная проблема на советском торговом флоте? – Я недоуменно пожал плечами. – Сухой закон. На советском торговом флоте принят сухой закон. – Я кивнул. – Только вот незадача, юнга. Закон принят, а пьют все. Иногда не просто пьют, а до чертиков и белочек. Вот, допустим, ты видишь – человека списывать надо…
– Ну?
– А как ты его спишешь, если капитан против?!
– По показаниям.
– Ай, молодца! Списывай. По показаниям. А следом капитан тебя спишет. Капитан – между прочим, тоже человек. Ему тоже нужны две вещи. Какие? – Я опять пожал плечами. – Первое. Деньги. – Я кивнул. – А второе, еще поважнее первого, потому что без него никакого первого не будет. Ти-ши-на. Тише, мыши, кот на крыше… Нужна тишина. А как только ты кого спишешь, то…
– Кирдык тишине, – сказал я.
– Именно, – глотнул остывшего чаю начмед. – Так и это еще не все. На каждом судне у тебя десятки, а то сотни членов команды. Они все – люди. Правильно? – Я вновь кивнул. – Только они особые люди. Им болеть нельзя. Им, как и тебе, деньги нужны, валюта нужна. А если заболел – все, завертелась машина. Пиши пропало, спишут, и накроется его валюта. Дай бог, если потом вэ-ка-ка на берегу пройдет, и обратно возьмут. А если не пройдет? А если – не возьмут?! Что из этого следует? Ну?
– Из этого следует, Николай Васильевич, что они жаловаться на здоровье не будут.
– Именно, Стёпа! Именно так! Он у тебя на вахту полутрупом заступать будет, а не расколется. Пока не упадет. А если упадет – кого шкурить будут?
– Меня, – сказал я.
– Ну и последнее. Ладно, если команда небольшая. А если плаврыббаза? А там баб двести штук? Что тогда?
– Наверное, тогда не все спокойно.
– Тогда к пьянке в команде, Степа, присоединяются поножовщина на почве ревности и заболевания, передающиеся половым путем!
– На море клипер, на палубе шкипер, у шкипера триппер! – заржал я.
– Молодец, в общем фольклоре ориентирован!.. – загрохотал начмед. – Ну и, помни, не будет тебе никакой хирургии. Будешь лечить ушибы, фурункулы, алкогольный делирий, пневмонии, растяжения, переломы, поверхностные ножевые ранения, зубы драть будешь. Спасавиацию на себя вызывать, если что посерьезнее, и воды наши, или в чужом загранпорту больного до госпиталя и обратно сопровождать. Тю-тю твоя квалификация, даром, что получил первую категорию. Все честно тебе рассказал. А теперь – решай сам.
– Вы меня возьмете в плавсостав? – спросил я. Начмед лишь грустно кивнул.
– Твоего Коровкина я так же отговаривал. Не помогло. Настырные вы. Ну, да ладно. Господу видней.
Я ждал Цаплю внизу, у глухой стены кольцевой «Парк культуры». Увидел еще на эскалаторе. Рассекая серое море голов и плеч, она белой лебедью плыла ко мне через всю станцию – и глаза ее лучились, и походка была грациозна, и волна тепла, одному мне предназначенная, накатила девятым валом, и вот я, весь теперь внутри ее родного облака, тихо прошептал:
– Цапелька, они меня берут…
***
– Ну же, Шура! Ну-у-у, куда едешь?! Все колдобины собираем! Того и гляди, колеса отвалятся! – выставив руку в открытое окошко орала, ошалевшая от солнца и «крепляка» из горла, Дерюгина.
– Да ладно тебе! Вот же указчица нашлась! – смеялся в ответ Коровкин, сжимая двумя руками узкую черную баранку. – Тут как не поедешь, все равно – яма на яме! И вообще – младший состав действия штурвального попрошу не обсуждать! Что ты прицепилась?!..
– Сам дурак… – обиженно надула губки Дерюгина.
Мы с Цаплей, обнявшись, врастали друг в друга на заднем диване. Места для цаплиных ног не было совсем. Даже сильно сдвинутое вперед дерюгинское кресло не помогало; Цапле пришлось каким-то невероятным образом сложиться и скрючиться. Она напомнила мне улитку в тесном домике. Я ухмыльнулся, развязно подумав: да, такая женщина достойна совсем другого автомобиля, – и тут же осекся от стыда: у меня для нее не было никакого.
С пыльной Ленинградки, крутанувшись на развязке-«клевере», свернули на такой же пыльный, четырехполосный, с разбитой бетонкой и газоном-разделителем МКАД.
– Пусто как сегодня… – протянул я, глядя в окошко.
– Так все савейские граждане еще со вчерашнего, а то и с позавчерашнего по дачам сидят, Стёпский, – отозвался Коровкин. – Первомай, как положено, справляют. Это мы из-за твоего дежурства припозднились.
– Ничего, наверстаем! – заорала Дерюгина, в очередной раз присасываясь к бутылочному горлышку.
Другие электронные книги автора Михаил Борисович Зуев
Кожа




 0
0