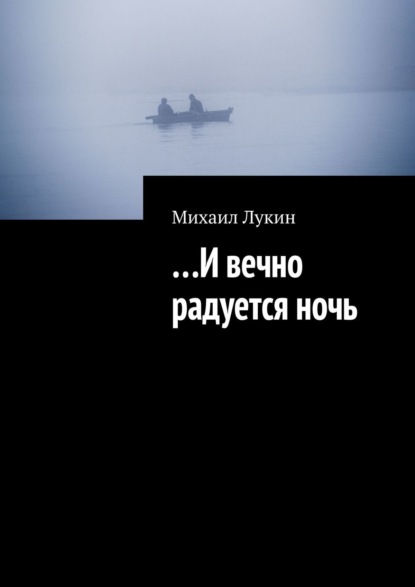По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
…И вечно радуется ночь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вот, какой-нибудь давно протухший Фюлесанг, смотрясь в зеркало по утрам, выскоблив до красноты затупившимся лезвием подбородок и приладив жиденькие волосёнки друг к дружке в более-менее сносную прическу, находит себя в несомненно более выгодном свете, нежели доктора Стига, вечно метущегося, мрачно-задумчивого, обременённого проблемами вовсе не глобального характера. Работники доложили, в подвале опять озоруют грызуны – мешки с пшеном безнадежно попорчены. «О, Господи, и за что мне это!?», – восклицает доктор Стиг. Вместо своих прямых обязанностей по подобающему сопровождению живых трупов в иной мир, он вынужден воевать с какими-то мышами; это не уменьшает отёков под глазами, и никак не способствует собственному спокойствию и благополучию. И так выходит, что он медленно, сам по себе, шажок за шажком приходит в упадок, разрушается… А что ж Фюлесанг? Ему вовсе не так уж худо, как можно было бы подумать. Зеркало не лжёт, оно неспособно к этому, в отличие от людей. Глядеться на себя – ежеутренний ритуал, заменивший собой молитву; он глядится, так и сяк, и отмечает с удовольствием, что уж на его-то румяном блинообразном челе, в отличие от хмурого докторского, морщин явно поубавилось, а волос на макушке, несомненно, ударился в рост. Нет, конечно, он не Дориан Грей, но всё же положение явно стремится к лучшему, и нынче он – мужчина хоть куда, и отчего бы, в таком случае, скажите на милость, не приударить за какой-нибудь из сиделок. Вот хотя бы за фрёкен Джулией, сиделкой загостившегося на этом свете Хёста! Чем не пассия? И чёрт бы побрал меня, если я не видел-таки бочкообразного, пышущего здоровьем (а скорее, его подобием) и румяного Фюлесанга любезничающим с фрёкен Джулией, полногрудой незамужней особой приятной наружности. А та краснела и заикалась от неожиданности напора его и едва ли не юношеской горячности.
Тогда я вновь задумался о странностях человеческой натуры. Это был хороший повод, чтобы записать парочку пришедших мне на ум мыслей.
Румянец Фюлесанга, буйным цветом взрывающий обвисшие, как размокшие тряпки, щёки – проделки сахара в крови, ясное дело; волосы на черепе – всего лишь то, что ещё не облетело, а вовсе не то, что выросло заново; блеск в заплывших глазах – следствие наполненности желудка, сытости, не голода, присущего юношеству. Так что с того? Помеха ли это ему? Быть может, нездоровому человеку лучше всего внушить себе толику здоровья, не принимать всё данностью, а решить себе: здоров, и точка! Отчего нет? Не уверяется ли глупец каждодневно в мудрости своей, ведь никто кругом его не понимает? Не уверяется ли и лжец в том, что ложь его во благо? Уверенность в правоте – вот главное! Это мгновенно убивает всякую тягость от скорой неизбежности, особенно у того, кто так страшится, что и слова не вымолвит. Уверенность; и доктор в этом случае – проводник, слепой Харон, всего лишь! И выходит, он прав, и вовсе здесь не затхлый склеп, и вовсе не «Вечная Ночь», а пансионат «Вечная Радость», обитель полных счастья, которые так счастливы, что даже не курят, людей… Прав! С чего я тогда так невзлюбил его?
Боль, неискренность, злость?.. Бог его знает!
Вот вдовица Фальк, добрая моя знакомая, столь часто донимавшая меня прежде, теперь – совершеннейшее растение, я редко вижу её, разве только исподволь через окошко по утрам, и вовсе не слышу её голоса. Она возносит руку, заметив знакомое лицо и, необходимо признать, зрение у неё острое, как никогда – меня она хорошо различает издали в окне. Наверное, если б могла, она вполне бы похвасталась своими улучшениями – о, да, именно улучшениями! – пусть почти недвижима, но прибыло в ином месте, там, откуда и не ждали: Господь Бог одарил милостью видеть на расстоянии без очков и монокля. Отчего бы не подумать, как в скорости изменится ещё что-либо?
– Доброго времени суток, дорогая госпожа Фальк, как сказали бы у меня на Родине!
Старуха блаженно бессловесна – грезит, как младенец, и посапывает в дрёме из-под груды одеял: утро для неё пока не началось, а может быть, ещё и не заканчивался вечер. А вот застигнутая врасплох незнакомка отскакивает от её кресла метра на три в сторону, едва не соскальзывая в пруд при этом. Ну, уж о её-то здравии волен справиться я без подозрений в дурном обхождении…
– Доброго дня и вам, фрёкен! – улыбаюсь, приподнимаю шляпу. – Как ваше здоровье? Прекрасное утро, не правда ли?
…Волен и улыбнуться пошире – вероятно, часть былого моего «великолепия» с тем вернётся ко мне, если не буду в край смешон.
Фрёкен молчит, и – хлоп, хлоп! – ошалевшими ресницами… Росточку-то невеликого, и вся какая-то нескладно-хлипкая, невесомая, совсем девчонка, в тёмно-синем пальто с меховой оторочкой и обшлагами, с лохматой, старомодной, чуть свалявшейся муфтой на одной руке, и на голове – никаких тебе шляп с перьями или вуалью! – чёрный бархатный берет. И волосы… волосы под беретом, чёрные, как смоль, туго скручены широкой косой совсем на тот русский манер, старинный русский манер. О, какая ж ты… Могла разве быть ты ночным моим татем, коварным и безжалостным, могла разве вдохнуть жизнь в давно мёртвое тело?! Ты, крошечная, кажется, бесхребетная – осерчает ветер, да прочь унесёт, как листок – в которой и самой-то, кажется, недостаток жизни и чувства… Ты ночью ворошила мои записи?! Но это же ты, ты, чёрт побери! Ольга… Растерянное лицо и впрямь будто её, Ольгино, немного, правда, строже и мрачнее, с некоторой резкостью в чертах, но глаза… те же самые, где, словно сияющие слезинки, спрятались тайны. И глаза эти, глаза… так же темны и глубоки, как Ольгины, и губы надменные, но обжигают – знали ли они улыбку и уж тем более прикосновение?
Нечто непонятное взошло, воспоминание укололо в сердце – чувствую резкую боль, затем… мягкая теплота. Ничего, ничего общего с тем, что грызёт и терзает меня, и вовсе не смерть сводница этому.
Стремительным шагом напрямик к ней, приближаюсь, жадно сгребаю в охапку ладонь в перчатке, запечатлеваю поверх поцелуй… Ума не приложу, отчего, – порыв, не более! – но губы без труда вспомнили обхождение, пальцы легли на худенькое запястье и, дрожа, сжали его. А кожа её, прежде холодная, полыхнув жаром и под перчаткой, была взаимна, и знакомое раскалённое дыхание – ответом на некоторые вопросы… Да, это была она – вряд ли мне привиделось! По иным поводам сходил с ума, забывая, кто таков и где нахожусь, но не по этому!
Приковываю себя к чёрной бездне глаз напротив – Ольга… Ты! Попробуй только сказать иное, ну же, попробуй! Господь не терпит лжи и помечает лгунов особыми знаками – будь уверена, я сумею их разглядеть.
Недоумение снедает страх, густая краска на лице, то ли от смущения, то ли от ярости, а ошалевшие зрачки в поисках истины снуют по сторонам – кто бы лишний не застал.
– Кто вы?.. Что себе позволяете?.. – голос, непривычно низкий, с хрипотцой, словно простуженный, понятное дело, мигом в дрожь.
Трепещу, признав и его, голос; я ответствую, вопреки всякому приличию, вопросом на вопрос:
– Ольга, ты обещала прийти ко мне. Почему ты не пришла тогда?
– Господи, что вам от меня нужно? – лепечет, стараясь, во что бы то ни стало, увернуться от моего пронзительного жаркого взгляда. – Я не Ольга! Мы незнакомы, я ничего вам не обещала…
– Обещала! Ноября, семнадцатого дня, я запомнил дату. Мы, полумёртвые, иногда ещё способны соображать, а память, порою, заменяет нам солнце и кислород. Ты явилась ко мне тем вечером, смотрела мои бумаги, те самые, на которые оплавлялась свеча, я застал тебя с поличным. Ты забрала что-то из них, чего-то я не досчитался.
Озирается… Дрожь уже не только в голосе, а и во всём теле; обвинения слишком серьёзны, чтобы в ответ можно было отмолчаться.
– Не было ничего подобного!
– Зачем ты явилась? Уж не для того, чтобы справиться о здоровье старика…
– Как вы смеете…
– О, всё помнишь ты – как может быть иначе! Ты была…
Голос начинает захлёбываться, будто от удушья:
– Это… Это была вовсе не я…
– Значит, всё же была!
– Нет, вы всё не так поняли.
– О, гляди ж, чертовка, – взбредает в голову пригрозить ей, – случившееся не останется без последствий – мои записи были похищены, доктор читал их…
Тогда, с выпученными, полными смятения глазами, лопочет она о недоразумении.
Ну, решаю, довольно, и хватаю её за то самое плечо.
– Прикосновение многое объясняет, если слов недостаточно… Помнишь прикосновение?
– Пустите же!
Ломается… ещё поддавить, совсем немного…
– Так ты помнишь меня? – сильнее сжимаю плечо. – Отвечай же – тогда отпущу!
– Помню! Пустите, ради бога!
Ну, вот и всё – скоротечно, злобно, неистово!
О, какой дипломат погибает! Посмотрите только – один момент… и вопросы исчерпаны – ни долгих утомительных переговоров, ни бессонных ночей – раз и сделано! Стоит, пожалуй, попроситься в канцлеры Германии вместо Фейхтвангера: «Алло, Берлин? Слыхал, вы ищете канцлера… Есть один умудренный сединами человек с волчьим билетом от Королевского Суда Норвегии за попытку организации путча в богадельне… Что, уже нашли? Вот же, чёрт! И надо же, как назло, тоже с волчьим билетом за путч!»…
Продолжения нет – от Ольгиного визга просыпается госпожа Фальк и ёрзает под одеялами. Ольге того и нужно: мгновенно вырывается, хватает кресло со старухой, и вот уж скрипучим волоком его по аллее от пруда к «Вечной Ночи» – так я их и видел.
Преследовать – есть ли в том нужда?!
Довольно, довольно на сегодня неистовств! Губы до сих пор пылают, сердце пляшет тарантеллу и, того и гляди, зайцем выскочит из груди; сладостная уверенность в том, что день этот запомнится и ей, маленькой Ольге, не отпускает, как ни пыжится единственно хранящий трезвость разум подвергнуть эдакую опрометчивость осмеянию. Но если ж так, если ж впрямь горячо её любопытство к тому, чем дышу я в одиночестве огромной своей берлоги, то мы ещё свидимся! Быть может, следовало бы взять с неё слово, однако то, как сдержала она предыдущее… мда… Ведь она – настоящая женщина, а женщинам отродясь обещания – пустой звук.
И я решаю, что, корча из себя Хитклифа, поступаю единственно верно. Итак, прочь все обещания, заведомо невыполнимые, да здравствуют тёмные потаённые мечты, позволяющие видеть чуть больше смысла в происходящем и читать между строк, здрав будь тот единственный день, которым жив, завтрашнего мне не нужно.
Разумеется, она была иного мнения: я не увидел её ни следующим днём, ни последующим.
Но отрезвляет ли это? Чёрта с два! Напротив – всё упрямей, всё безумней, и всё отчаянней… Ты, что же это, влюблён, снедаем страстью, не иначе? Увы, болен, всего лишь, сошёл с ума…
Ежеутренне – трепеща у окна, ввечеру – в скомканной неприветливой постели с воспалёнными глазами и смятенным сознанием; с тех самых пор не спав ни мгновения, только и хлопот мне, не скрипнет ли дверь. Ни вода, ни пища, ни письма, ни собственные записи – дверь и ничего более!
И одной понурой ненастной ночью – не чудо ли! – прислышался мне тихий стук; точно укушенный, вскочил с кровати, и на негнущихся ногах, опрокинув по пути навзничь стул, заковылял к двери, но это лишь сквознячок пошаливал в пустом гнезде выкорчеванного дверного замка. Тогда запалил свечу, как тогда, дав ей оплыть на мои бумаги, и огонёк её мерцал, едва не затухая – я желал, чтобы всё было точь-в-точь как тогда – и уселся ждать. Лишь погода стояла иная – небеса разверзлись и заливали землю дождём, и всё посерело окрест; и вот в воде надежды – по щиколотку, по колено, по горло… – им уж было не выбраться, они захлёбываются и идут ко дну на моих глазах. Вот как: возжёг свечу, залил воском все бумаги, натряс сигарного пепла, а погоды… не мог изменить, как ни нашёптывал в окно всякие детские заговоры. И стало быть…
…Ни к чему всё, стало быть – она не приходит!
Тогда, кидаясь из крайности в крайность, начинаю думать, что помехой ей какая-нибудь досужая мысль или негласный запрет, а вовсе не Лёкковы отрешение и безумие.
Да, особняк поделен на женскую и мужскую части – из женщин к нам заходят лишь наши сиделки. Некогда приходила и старуха Фальк, но вряд ли без ведома Стига. Единственное место, где мы все можем видеться – столовая, или кают-компания, как её здесь называют. Можно встретиться и снаружи, но по разным причинам на улице появляются немногие, не страшащиеся ветра, дождей и холодов. Иные выходят под присмотром, кого-то возят в кресле, двух-трёх человек, не более, старуху в том числе, но с момента той памятной встречи проходит время, несколько дней, а её, точно с намерением, больше не вывозили на прогулку, ни Ольга, никто вообще. Ей стало хуже, доктор запретил ей покидать особняк, звезда сорвалась с неба и прибила старуху насмерть – масса причин в голове, фантазия не иссякает – масса поводов у меня в мыслях и на языке, кроме очевидного – Ольга сама не хочет исполнять свои обязанности и всё из-за страха преследования некоего старого писателя. Это приходит чуть позже, и так, в образе шутки, выдумки обостренного болью и бессонницей разума. Едва лишь начинаю думать об этом, то тут же обзываю себя глупцом и слизняком, и отбрасываю, как можно дальше – как можно, чтобы такая мысль вообще посетила меня!? Для надёжности записываю её на бумаге, а затем с хищным отчаянием обращаю листок в пепел: когда он, характерно звонко хрустя, прогорает, таинственная радость, изгнав отчаянные мысли прочь, обволакивает меня.
Следующим днём сам прохаживаюсь вокруг здания, заглядываю во все окна первого этажа, наблюдаю за вторым этажом, но ничего особенного не вижу; стариковские глаза смотрят на меня в ответ, знакомые и малознакомые, а порою, что и молодые, глаза какой-нибудь из сиделок, любопытные, оценивающие, побуждающие присмотреться пристальней к ним… И присматриваюсь – вздор, выдумка, водевиль, обман! Сколь много глаз, и нигде нет таких молодых таинственно-глубоких, исполненных светлой грустью жизни, как у неё. Ничего тут не поделать – понятия не имею, где Ольга может быть.