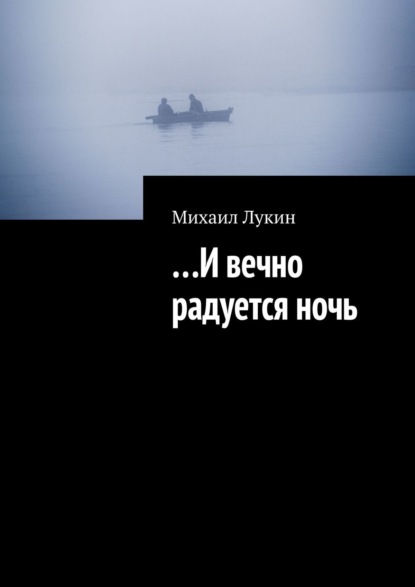По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
…И вечно радуется ночь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Немец открывает рот от удивления:
– Пальто! Есть ли у меня пальто?
– Да, пальто, – говорю, – чего тут непонятного?
И в голове не укладывается, восстаёт: посреди разговоров о судьбах Европы, всего мира даже, русского занимает какое-то пальто!
– Пальто… – Шмидт шевелит сухими губами, и далее, странно дёрнувшись, опустившимся, угрюмым голосом: – Какое такое пальто, не угодно ли объяснить?
За столом вновь разгораются отдельные всполохи смеха.
– Пальто, – говорю, – длинное, тёплое, с рукавами…
Шмидт становится жалким и будто уменьшается, всасывается в свой стул. Смешки усиливаются, перетекая во что-то родственное улюлюканью.
– Но как же это… зачем…
– Чёрт возьми, Шмидт, – кричит раззадорившийся, вечно красный, Фюлесанг, – вы не знаете, что такое пальто?! А мы считали вас образованным человеком…
Шмидт открывает рот – в воздухе шлепок откупориваемой бутылки – но молчит.
– Нет-нет, господа, – говорю, – не спешите! Подозрения господина Шмидта небеспочвенны. Пальто… пальто – это… как бы объяснить – не совсем предмет туалета.
Фюлесанг чуть не падает со стула.
– А что же это такое?
Я, серьёзно:
– Аргумент международных отношений, да!
– Что, что? – Шмидт будто бы пробуждается от летаргии. – Аргумент чего?
– Международных отношений, дорогой Шмидт, столь вами любимых – говорю я, и далее, под лавинообразно нарастающее веселье обеденного скучающего общества разъясняю: – Вот полюбопытствуйте: шерсть – английская; пуговицы и фасон, без сомнения, по парижской моде; дурацкий хлястик облезлым песьим хвостом – позади, неизвестно зачем и отчего, но вроде того, как на шинели кайзеровского образца; и, да, конечно: длинное двубортное, на меху, с отложным мохнатым бобровым воротником – красота да и только! – едва ли не русское… В общем, от каждой нации понемногу и того, и того, в общем, политическая коллизия, Мировая Война, помимо всего прочего, в общем и целом! Понимаете вы?!
Ничего не понимает – багровеет, затем становится лиловым, и начинает трясти головой, точно умалишённый, досадуя и сказываясь тяжко оскорблённым. Маленькие живые глазки, помутнев, стекленеют, и, того и гляди, выкатившись из орбит прочь, зазвенят об пол тысячей мелких осколков.
– Ну, дружище, не принимайте близко к сердцу, – едко говорит профессор под гиканье общества. – Стоит оно того? Удача – дамочка норовистая, улыбнётся вам в иной раз!
– Да, да, Шмидт, бросьте! – милостиво поддерживает его пресытившееся весельем общество.
Подают послеобеденный чай. Ситуация сглаживается, и только Шмидт сам не свой, глядит по сторонам, будто бы никого не узнавая. Когда откланиваюсь, Шмидтов немигающий взор припаян к тому месту, где я только что находился; в этот момент он выглядит квинтэссенцией глупости.
Давным-давно ясно – пальто он не носит, предпочитая пончо, тунику, камзол или же просто-напросто выдубленные звериные шкуры. Либо же, если и носит, то из-за своей немецкой скаредности, ставшей притчей во языцех, просто не выручит им, удавится, но не выручит. И несказанно жаль, между прочим: некоторые надежды определённо были связаны с ним – всё-таки мы одного сложения…
***
Но приходит пора собирать камни – она всегда приходит, рано или поздно!
В комнату тащусь по стене, а вползаю на четвереньках…
Но приюта – не сыскать; ограниченное пространство залито светом, ярким, помноженным стократ, упругим и плотным – в кричащей пустоте комнаты солнечные лучи – нечто материальное. То, от чего бежал, настигает в этой берлоге, ведь на окнах нет гардин – их сняли по указанию доктора для предупреждения суицида. Доктор страшится такого исхода, его сон вряд ли дышал спокойствием, пока гардины висели здесь; лишь теперь он спокоен, ценой беспокойства моего…
Дурно, скверно – от этого воспалённый мозг отчаянно размышляет!
Кровать… Забиваюсь под кровать, но и там нет спасения.
Шкаф! Скорее к платяному шкафу, моему замечательному шкафу, вмещающему помимо одежды, также и одиночество! Отпираю – теперь моли придётся потесниться. Внутри – умиротворяющий наркотик сумрака, врачующий душу, утоляющий боль; несмотря на поднявшуюся пыль и спёртый тяжкий воздух, мне чуть легче. Гардины… мне нужны гардины, обязательно нужны! Пусть даже ценой некоторых стратегических уступок доктору, – к примеру, в виде клятвенных заверений в отсутствии суицидальных мотивов, – я должен вновь их получить.
Немец удручён теперь, возможно, ему хуже, чем мне, возможно, он пылает лютой ненавистью. Ну, и пускай: с радостью дарую ему возможность дышать гневом, которым и сам дышу – гляди ж как это сладостно, черпай полными пригоршнями, насыщайся! Я хотел этого, я питаю горячую надежду на то, что нынче ночью прокрадётся он ко мне и вонзит нож мне прямо в сердце, в отмщение за то, что сегодня он стал посмешищем. Явись же и убей меня, Шмидт – что тебе стоит! – оборви бесприютную, бессмысленную жизнь, сплошное мучение!
Желаю быть ненавидимым любой ценой, и буду им, иначе остаток жизни – совсем ни к чёрту, благодарение питающим ненависть ко мне! Пою Осанну доктору и тебе, дорогой друг Шмидт, за тот воспалённый полубезумный взгляд; благодарю Фриду за терпеливое молчание, и смуглую незнакомку, сиделку старухи Фальк, бежавшую от меня без оглядки; благодарю весь божий мир, где уже потерял место.
Я видел её, я был потрясён! Она случилась у меня недавней ночью, она – больше некому! – вблизи почувствовал я её жар. Она похожа на Ольгу, это верно: пристальный взгляд и чувственный рот, такого не сыскать больше в целом свете. О, понимаю, отчего так томились по тебе многие, и уже в нежном своём возрасте цвела ромашкой ты среди сорняков. Как хорошо помню тёмные глаза – их невозможно забыть! Самыми жгучими были они при свете дня, когда солнце играло в них, как в брызгах водопада. Я не любил тёмные глаза и смуглую кожу, это далеко от моего идеала, но страсть возжигалась не оттого – я не мог повелевать страстью! – страсть была тайной души и, слава Богу, осталась таковой.
Мои брызги водопада, с тёмными водами и священного…
Наша последняя встреча… Весна 18-го, Москва, вокзал.
В кармане – плацкарты до Петербурга, обозванного теперь, точно собачьей кличкой, Петроградом, и далее, по разорённой, погребённой под остатками собственного величия стране, до Гельсингфорса, вложенные в недавно полученный шведский паспорт, в Выборге под дипломатической защитой ждёт Алекс с дочерью, над землёю весна и запах сирени, а мне тоскливо. Теряюсь с дрожью в лабиринтах глаз, барахтаюсь, сердце щемит в груди, и дыхание безнадежно сбито – бегун оказался неопытным. Паровоз кряхтит, кругом разноголосье, свистопляска, шум толпы, прощальных окриков и слов, кругом изобилие звуков, и только мы глотаем, как слёзы, безмолвие. Маленькая ручка – в моей широкой лопате, и точно тонет там. Я – высокий, как дерево, а она – крохотная, и смотрит на меня откуда-то с земли, то и дело задирая голову; ей неудобно, но она не признается.
– Тебе пора, – доносится до меня голос.
Да, мне пора, Ольга! Ты понимала, что мы никогда не увидимся больше?!
Она кивает, возможно, этому, возможно – нет, один раз, озирается, потом кивает ещё. Сияющая жемчужина слезы скользит по смуглой щеке, там, где, если б дожила до старости она, верно, была бы борозда…
Благоверный её в истоме, измученный ревностью, сидит где-то в этой нелепой своей огромностью Москве, пьёт горькую, и ждёт назад своего «черноглазого ангела». Меня ждёт супруга, но она ещё дальше Ольгиного мужа, она пишет мне письма и умоляет приехать как можно скорее, потому что на границе неспокойно. Иногда я думаю послать всё к чёрту, всё, без какого бы то ни было исключения, и тогда, знаю, жизнь моя, человека гонимого, и так не стоящая теперь и ломаного гроша, вряд ли продлится больше недели, но что это будет за неделя! Но нужно ли жертвовать всем ради одной недели, даже одного дня, одной крохотной минутки?
Когда паровоз крякает последним свистком, я делаю шаг…
И взяла тоска себе имя её, и обратилась всем для меня – тоской ругался я, тоску забивал в мундштук, с тоской же и пялился в тусклое, посечённое косыми дождинками, стекло салон-вагона. Ловил блуждающий рассеянный взгляд, не отрываясь от всё ещё детской фигурки в длинном чёрном платье и кокетливом берете, но затем белый дым паровоза окутал её, скрыл от меня навсегда, и так кончилось всё даже и не начавшись. Потом… только бесконечные поля и леса моей несчастной истекающей кровью Родины мелькали предо мной, погружённым в скорбь, как в океан, терзающимся о своём.
Что за скверная вещь эта жизнь, и каков же мерзавец придумавший всё это колыхание и дребезжание, с которым колёса повозки твоей жизни катятся по неровностям бесконечно извилистой дороги?! Почему тебе так часто даётся то, что ты не в состоянии взять, маячит перед глазами заманчиво, но протянешь руку, как этого уж и след простыл? Зачем нужно всё так усложнять? И нельзя ли просто рождаться с осознанием того, что рассчитывать на многое тебе не след? В этом хотя бы был смысл, а так… Так – сплошное издевательство, насмешка…
Да, моя жизнь – предмет трагикомедии и оптимистического фарса, как жизнь любого из миллиардов глядящихся в это глубокое зеркало. Кто-то просто смеётся над ней, думая так скрасить томление собственного бытия, кто-то плачет и переживает, отчего случилось так, а не иначе. Если принимать всё данностью, возникают вопросы, отвечая на которые смертный может забраться так высоко, что сравнится с Господом Богом; а когда он заберётся туда, то может увидеть, что никакого Бога там и нет. Тогда сведущие скажут – ты забрался не туда, Бог гораздо выше, чем может объять твоя жалкая мысль. И ты полезешь всё выше и выше, и будешь лезть всю жизнь, лезть по головам своих собратий, переступая через себя самого, пока кто-нибудь не прервёт твои мытарства, послав тебе смерть как избавление, единственным ответом на все вопросы. Тогда ты поймёшь, что всё было напрасно. Просто-напросто напрасно! И ни в чём не было смысла – ни в жизни, ни в борьбе, ни в любви – смысл был лишь в крайней бессмысленности.
Да, Ольга, мне пора. Когда напольные ходики в кают-компании яростным щелчком констатируют гибель старого и рождение нового дней, я вновь надеюсь оставить этот мир, а вместе с ним и кровоточащую память, в том числе и о тебе. Впрочем, надеюсь каждый божий день, и каждую божью ночь пытаюсь уснуть я в обнимку с этой надеждой, и иногда даже, случается, засыпаю.
Но… Близится вечер, солнце ушло, мне лучше.
Выбираюсь из шкафа, сажусь к столу писать письмо Хлое. Скоро явится ненаглядная Фрида – желательно успеть до её прихода.
IV
Конец ноября. Утро.
Хлоя прислала пальто, это не заняло много времени, – она знает мой номер, моё сложение, и одежда пришлась впору, – доброе пальто цвета воронова крыла с обшлагами и хлястиком, тёплое до одурения. Пришлось подождать, но ожидание увенчалось успехом, и это несомненная радость!