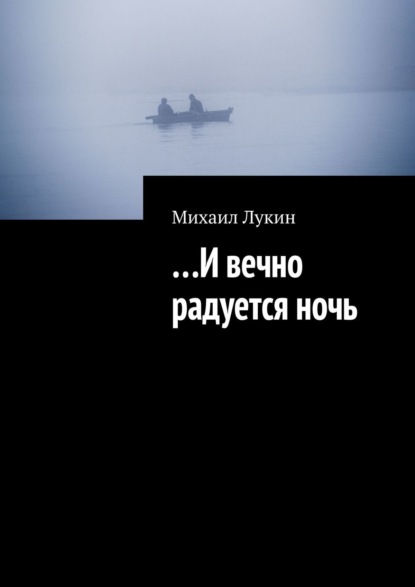По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
…И вечно радуется ночь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
…Либо последующий – и так далее…
Всё же он искренне пытается задержаться: беда, что с предлогом для этого – глушь. Лёкк же – каменный истукан, безмолвие – новое прозвание его. Никаких воздействий на себя не приемлю, никаким уговорам не поддаюсь, ухожу в собственные мысли, теряюсь там, даже не отвлекаясь на происходящие кругом события. Что остаётся доктору – уйти также, сизым облачком вверх, в пределы предвечного…
Он и впрямь оставляет меня – я даже и не сразу замечаю. Закрываю – открываю глаза… Его уж и след простыл – он исчез между вздохами, на лоскуты распоров мгновение.
Молчу, запрещаю говорить даже мыслям, обращаюсь в слух – в соседней комнате, у Хёста, доктор даёт отповедь несчастной фрёкен Андерсен – не слишком ли редко заходит та к своему подопечному? Если ж впрямь пренебрегаете вы своими обязанностями – берегитесь! На деле ж сиделка ни в чём не виновата – она регулярно бывает у старого Хёста, даже и чаще обычного – я обличил её исключительно в развлекательных целях. Лишённому движения старику, коим является мой сосед, будет забавно послушать эту вежливую ругань по его поводу – это не ахти какая, но всё ж забава.
В незакрытую доктором дверь вваливается Фрида собственной персоной – она была вовсе не под кроватью и не в шкафу, а где-то в ином месте, и я всё говорил впустую вчера, только стенам, бедолаге Мунку, да самому себе. Сама Фрида, как обычно, мрачная и с самой своей свирепой миной; в руках у неё ведро и швабра – насмотревшись на бардак, доктор послал её прибраться.
Несчастий доктора Стига мне недостаточно, и я берусь за Фриду, грязно презрев собственное обещание никогда больше её не беспокоить.
– Фрида, недавно здесь был доктор Стиг, мы мило поболтали, как старинные приятели; он сказал, между прочим, что ты вообще не спишь! Этому был удивлён я несказанно; то, что ты не ешь, не ходишь в церковь по воскресеньям, и не почитаешь Христа как нашего Спасителя, я давно знал, но разве ж ты настолько чудовищна в своём отрицании всего самого святого, что решила отринуть и сам благостный сон! К чему я затеял это? К тому всё, что я бы хотел, чтобы ты приходила ко мне так же по-свойски, совсем как наш дорогой доктор, и мы с тобой разговаривали, ибо более разговорчивого человека, чем ты, я не встречал доселе. Это ровным счётом ничего тебе не будет стоить, коли уж ты совсем не спишь, а только дышишь у меня под кроватью, так вылезай оттуда в один прекрасный день и мы просто поговорим. Даже такому, как я, порою бывает одиноко…
С незыблемостью философа-стоика переносит Фрида все мои бредни, не отрываясь от своих дел, только изредка пожимая плечами. А я искренне уповаю, что дело всё же дойдёт когда-нибудь до того, что она будет креститься при виде меня и бормотать «отче наш». Лишь бы её саму прежде не сожгли на костре, как ведьму и еретичку.
III
Вечером в мыслях ярким лучом – Ольга! Которая из них – та, память молодости, далёкой исчезнувшей жизни, либо эта, земная и грешная – неведомо: из неё под пытками будто бы вырвано обещание явиться сегодня. Появление это разрешило бы некоторые вопросы, да…
…И вот радостная истома ожидания затягивает, опутывает!
Чисто, аккуратно в моей берлоге – благодарение терпеливо снёсшей стариковские издевательства Фриде! – и ты могла бы прийти, без лишних никому не нужных церемоний, рухнуть, совсем как вчера, снегом по темени. А явишься, мы потолкуем; ни сигар, ни виски, не страшись, не будет. Всё просто и ясно – слова и только!
Нет-нет, знаешь что, глупец, простофиля – имя мне, вот! Как можно! Вовсе не станем говорить мы, именно это – лишнее. Только слова всегда всё портят, согласись? Так к чему они?! Люди болтают без умолку обо всём понемногу и ни о чём, и за болтовнёй забывают смотреть друг другу в глаза! Как же мудра, ей-богу, давшая обет молчания природе Фрида – гораздо легче понять и принять её с украшенным массивным амбарным замком ртом, ключ от которого давным-давно потерян. И с тобой, думаю, лучше будем немы – взгляд, дыхание, ощущение, ничего иного: быть может, тогда проблем будет меньше, а больше – согласия, гармонии.
Нужно хранить безмолвие и со всеми остальными! Ха-ха, не встанет в труд то, что никакого труда не стоит!
И с доктором, и со старухой Фальк, и с соседом, косматым медведем Хёстом, наконец?
А будто другие они, из иного теста, из иных костей? Будем перемигиваться… От доктора ничего путного так и не слыхано – дурацкие вопросы, упрёки, и только. Хёст? Рот его – пропасть, что ушло, не вернётся, и даже отзвука дожидаться обратно – тщета; лицо – маска, гипсовый слепок изувеченной жизни. Единственно глазами только и сообщается Хёст с миром: моргает сиделке – раз, два, три – подаёт условный знак, да косится в вырез на массивной её груди, вряд ли осознавая, правда, зачем именно. А старая дама… Вот с той-то не наморгаешься! Слова вылетают из утробы её, как из пулемёта, и заткнуть её не под силу никому – разве что смерть сумеет. Что делать с вдовой и ума не приложу. Впрочем, если впрямь решусь отмалчиваться, то, видимо, будет всё одно, говорит ли она со мной, нет. Пусть болтает тогда о чём угодно, и кого угодно поминает – супруга ли, короля Норвегии, германского кайзера или Императора Всероссийского.
Кстати, запамятовал, кто был её супругом? Не Папа ли Римский!?
Нет, так ничего и не решено! Нелегко радикально изменить заведённый уклад жизни… Лёкка, видите ли, окружают высокие монастырские стены, где веками наполняют своды одни и те же заунывные песнопения, и где временем выпестованный устав. Нелегко пролезть туда со своим…
Увы, напрасно, напрасно развлекаю себя пустым упованием – она не появится, не согреет рукою плеча, не коснётся взглядом!
Но всё же жду терпеливо – что ещё остаётся?! – до самой темноты, до тех пор, пока звон склянок, горшков, скрип костей и дребезжащее шаркание ног не замирают совсем. Прильнул жадно к окошку: ни облачка в выси, черничная бездна, выше самых высоких гор, и, естественно, несравнима с ними по красоте, ведь и от гор рано или поздно устаёшь, от бездны, захватывающей дух – никогда. Засеяна пашня Млечного Поля, и вскоре пойдут, ударятся всходы в рост в помощь тяготящимся бессонницей философам да молодым повесам, охмуряющим девиц.
Ольга, знаю, и ты не спишь, а взглядом ласкаешь урчащие от удовольствия звёзды. Приходи, будем ласкать их вместе…
Истомление мережит взор – кто будет собирать урожай, когда настанет время страды? Резь в груди; зубы скрипят, а руки… руки замком на шее. Это должно быть грёзами счастья: вот руки перестают повиноваться, руки обретают разум и свободу, а цель их – положить конец всему. Одно усилие, всего лишь, одно неуловимое движение… Всё, что было опасного у меня, забрали – ни ремня, ни шнурка, ни даже тупого ножика для разрезания газет – а руки в который раз подводят… Счёт подан, а руки бессильны оплатить его, и разум не восполняет их; ходить, говорить, орать благим матом – ради бога! – расплатиться – нет. Этим снам сбыться не суждено! И вновь с дрожью заворачиваясь в одеяла, через всё нарастающий дурман боли тянусь, точно за телом Христовым, за пунцово-красной облаткой…
Сейчас, сейчас всё пройдёт, будто бы ничего и не было.
Голова гудит, переливаются колокола внутри, мысли так и дёргают за язычки – сомнительная неверная эйфория вместо сна! Хлоя, Ольга, доктор… Круговерть, хоровод, свистопляска!
Чудак – доктор Стиг! Впрямь полагает, будто держится Миккель Лёкк за сытое, вальяжное и вялое существование, по сути медленный аутолиз?!
Всё меньше и меньше ходит по комнатам он, предпочитая слушать или читать доклады сиделок – на основании этого разрабатывается проблематика диссертации и строчатся статьи в умные столичные журналы. Вот, Фрида пишет ему о Лёкке… О Лёкке, в самом деле? Да, о том самом, писателе, с которым потягаться вздумалось ей в прозосложении – речи-то, видите ли, так и не обучили бедняжку! – сколько сигар выкурил, сколько бумаги попортил, сколько раз обозвал язычницей её, а Его Величество Короля – отжившим рудиментом прошлого (ведь все русские – безумцы и революционеры, не так ли?), и тому подобные преступления против здравого смысла. Всё красочно живописует она, и сверх того – точно знаю, ведь молчуны всегда больше писатели, нежели ораторы, – виниловая пластинка, крутящаяся в чугунном котелке на её плечах, всегда вовремя переключается, на ней красивенькие мелодии, аргентинские танго, штраусовская полька, но ровным счётом ничего величественного, ни Вагнера, ни Грига. И этот танец отплясывает она доктору на печатной машинке! Тот листает уныло, – глаза мутны, слипаются, – и зевает, едва не уткнувшись прямо во Фридину писанину, а затем подшивает в папку с именем Лёкковым и не проставленной датой неизбежного; в разуме ничего, кроме шальной мыслишки сесть за Ибсена, как я советовал, а сверх того – скомканная седая усталость.
День, казавшийся бесконечным, окончен. Вроде бы и хочется остаться ещё, поразмыслить, но… не о чем, а тужиться, выискивать повод… Баста!
Вежливо чертыхается, хлопает кулаком по столу, щёлкает кнопкой светильника, и… прочь из опостылевшей мансарды. Тяжкие шаги на мраморной лестнице, последние наставления дежурным, стук двери, задорное бульканье автомобильного мотора… Путь неблизкий, но благость ночи станет путеводной звездой, отдохновение – маяком.
Счастливого пути!
Луна подмигивает в окошко, мягкий свет проходит сквозь замызганное стекло и широко разливается по комнате. Ночь морозная и безветренная, такая ночь – редкость в это время, такая ночь рождает радостное смятение в больной груди, это чувство застит накатывающие сквозь всё ещё неостывшие воспоминания волны боли. Смогу ли продержаться до следующей красной – Бог знает! То, что зачиналось надеждой, святой по сути, крошится, разваливается разочарованием.
Поднимаюсь с кровати, медленно, грузно, тащусь в дальний уголок, отгибаю половицу – кое-что припрятано в тайничке! Сигара! Бесспорно, это самое то, что мне теперь необходимо! Если коротать время так, то, быть может, удастся забыться даже в бессоннице, обмануть боль, и поприветствовать утро, а вместе с ним обход, прежде срока. А, быть может, сама Смерть явит мне милость, и проникнет в меня вместе с этим сладким дымом?
Потом ложусь вновь, глубоко затягиваюсь, и вдруг… падает на ум крамола – а существовала ли ты вообще когда, Ольга? Не выдумана ли мною ты, с таким именем, с такой судьбой, с такими словами, смуглая и черноглазая – образ далёкой, утерянной безвозвратно жизни, след её тоски? Ведь сочинитель же я, выдумщик неведомых миров и нездешних зарниц! Не наделяю ли сам я первую встречную незнакомку всеми мыслями и чувствами мнимого человека, сливаю воедино с Ольгой, и разрываю на части тут же? Ни в коем случае, нет! Если думать так, то что же с моей собственной жизнью? Существовала ли она также? Ходил ли по земле и камням этим такой человек, Миккель Лёкк, писал ли книги, слагали ли стихи, любил ли, ненавидел?.. И в небе – гляди-ка! – созвездия складываются в моё собственное имя, не это, набившее оскомину, выдуманное моей супругой для шведского консульства, а то, русское, которое я уж и позабыл… Известное в монархической печати, в окопах Великой Войны, которую я, будучи негодным к службе из-за болезни позвоночника, прополз корреспондентом, знакомое и ей, Ольге – теперь сам стал я слышать его произнесённым её низковатым для такого хрупкого существа голоском. Протягиваю руку, касаюсь дрожащими пальцами забавных звёзд, щекочу – вот, теперь вы только и знаете его. Что ж, и того достаточно, а возможно и больше того, что нужно – достоин ли я этого? Звёзды – вечны, они были всегда, а человеческая память…
Хлоя гадала по картам для меня, – занятие недалёкое, но, тем не менее, завлекательное для благородного общества, в том числе и для нашего местного общества туземцев (можем мы, разве, быть не такими, как все!?), где заводилой и духовным вождем, конечно же, то и дело связывающаяся с легендарным супругом своим по космическому телеграфу вдова Фальк. Одна дама, американская журналистка, делая материал, излишне ретиво любопытствовала, гадает ли на картах Лёкк, увлечён ли спиритизмом, верит ли в Атлантиду за Геркулесовыми Столпами и агрессивных жителей Марса, живёт ли, одним словом, полноценной жизнью человека двадцатого столетия? Дурное, вовсе не для развёрнутых интервью, присутствие духа отговорилось тем, что, как активный член масонской ложи, Миккель Лёкк вправе метить на пост президента Соединённых Штатов, ибо в тибетские ламы не годится из-за европейского облика и скепсиса в существовании бесконечных перерождений души. В газете же, по такому случаю, нарочно для понятливой американской публики, было особо оговорено, будто некая беда стряслась с писателем Лёкком, и отношение к реальности его перестало выдерживать всякую критику. Старые добрые газеты, они всегда оценивали Лёкка по достоинству, равно как и суды, что уж тут говорить!
Так о чём это я? Да, о картах!
Многое грядёт ещё, многое… Долгие годы, обаяние удачи, вихрь счастливых событий, утверждает Хлоя – это поведали ей карты. Она божится, что не лжёт, и даже вполне беззаботно смеётся, она полна планов относительно меня, и хочет отладить свою жизнь, наконец, чему её блаженный родитель непременно обязан поспособствовать. Что ж, конечно, ложью тут и не пахнет – обманывает не Хлоя, сама обманутая, и не кем-нибудь, а своими картами. В любом случае, гнилые пеньки, прелая листва, и мрачные заморозки утрами отвращают от Хлоиных надежд в сторону противоположную, и никто ничего с этим не сделает.
Утолив сигарную тоску, приоткрываю окно для проветривания, сам же тихонько ныряю в темноту и сомнение коридора, и на цыпочках крадусь к Desdichado Хёсту, рыцарю тайного ордена «безнадежных», тайного оттого, что для них самих происходящее – тайна, для остальных же – табу. Лежит-полёживает себе всё в той же поре, – смены времён года в этой комнате будто бы и не произошло, – что и добрый месяц назад, с зияющим провалом рта и глазами, намертво прилипшими к потолку; со стороны казался бы спящим – кабы не глаза… кричащим намёком на недоразумение. И крахмально белый платок у изголовья на тумбочке – неизменен, положенный с намерением, чтобы сиделка либо кто-то иной, пришедший, промокал бедняге рот.
– Доброй ночи, Хёст, старина, – беру платок, прикладываю к его бледным губам. – Чудесная ночь, не правда ли? Месячная, ясная, насыщенная звёздами и недоразумениями… Такая ночь, говорят, более всего подходит для гаданий и ворожбы! И знаешь что: я раскидывал нынче картишки по твою душу… Что поведали они? Хо-хо! Послушай только: ты будешь жить ещё долго-долго, и даже возьмёшь в жёны фрёкен Андерсен, твою сиделку. Каково?!
Ответом слабое моргание – так, едва-едва, и морганием-то не назвать, будто нервный тик – это означает, что он вовсе непротив, и даже скашивает губы в подобие ухмылочки.
Старый негодник, даже и представить трудно, чего это стоит тебе…
***
Утром следующего дня с далёкого моря по всем горам, в долах и лесах – туман; обрывками всклокоченных парусов, тусклыми хлопьями безликого воздуха восстают во весь рост среди едва видимых деревьев призраки и тянут к нам, всё ещё живым, руки.
И «Вечная ночь» исчезает, взмывает вверх, теряется в густых покровах, будто и нет её вовсе, и всё, связанное с ней – иллюзия.
Немногим делится окно… Ломтик шуршащей в мглистом забвении аллеи, да размытые очертания чаши заброшенного фонтана, откуда одинокий Самсон вытягивает за каменную гриву обрубок могучего льва. Всё прочее – несущественно, нематериально! И напролёт всё утро, такой же несущественный, Миккель Лёкк – у окна, и даже ставит себе стул подле – наслаждаться видом… бесцельно, сладостным ощущением вечной отрешённости от всего земного, от сиделок, таблеток и доктора. На такое-то время и шумы из коридора, кажется, теряются где-то в тумане.
В дверь стучат, сперва тихонько, спокойно, затем настойчиво, наконец, громыхает артиллерийская канонада, заградительный огонь… Конечно, это Фрида – самое время для неё! Доктор всыпал ей по первое число – я слышал! – за то, как врывается она всюду без стука, хе-хе; нелепая нелетающая птаха, подранок – бейся, бейся… Но я не шелохнусь, ей-богу, даже не подумаю; в конце концов, и эти нелепые удары в незапертую дверь уже не воспринимаются, приглушаясь, сливаясь со стуком сердца в единый такт, и я убеждаю себя, что это именно стучит сердце, и свято в это верю. И ничего иного не остаётся Фриде, как делать то, что всегда она делала до этого замечательного повеления доктора непременно стучаться, а именно ворваться ко мне без пышных китайских церемоний. Давно пора! Непочатый край работы: насупленная, кидается заправлять измятую постель, подбивает подушку – перья так и летят – смахивает пыль и со стола, ворошит, раскладывает по стопочкам записи…
Объявляется следом, с отрешённой миной в лице, и доктор (вовсе без стука – как же так!), о чём-то говорит, интересуется – самочувствие, настроение, литература, театр, шахматы, что-то ещё. Ну, заходит себе и заходит: никакого внимания ему не перепадает. На что собственно он надеялся? Ведь снаружи, в прорве тумана – нечто занимательное, тем временем, приковывающее внимания куда больше этой парочки: вдова Фальк… Вот она, вернулась! Ровно пять дней ни слуху, ни духу, пять длиннющих угрюмых злых дней и ночей, и вот… Но что-то не так. Что же? Тело в плетёном кресле, оболочка, футляр, удушенная одеялами неприкаянность – впрямь она, госпожа Фальк, не кто-либо? Неестественно живая для подгнившего нашего бомонда, целостно-деятельная, насмешница, фантазёрка… Успевала повсюду, везде вставляла своё, веское и не очень, слово, всем была мила и улыбалась – также всем! Она??? Эта беззастенчиво-трогательная личинка? Нет же, нет! Враки, насмешка! Где кустистый, коралловый смех; где волшба и знахарство; где азарт, чёрт побери, юношеское беззубое побуждение обыграться в преферанс, чтобы затем восторженно спустить куцый выигрыш? И вот… кресло на колёсах – переднее правое погнуто и скрипит – в нём – нагромождение из плоти и тряпок (причём второго видимо больше) возимое взад-вперёд по мощёной камнем дорожке в буковой аллее, от кованых парковых ворот до крыльца! Доброе утро, госпожа Фальк, давно не виделись! Да, да…
Всё ещё не верю, протираю глаза, присматриваюсь: вдова, ни с кем её не спутать! И недвижима, в кресле, так оно и есть! Молодая особа плавно, со знанием дела ведёт вдовий транспорт через неровности, словно гондольер посудину по Canal Grande, не тряся слишком по ухабам. Не сиделка, не из местных – смугловата, в тёмном пальтишке и берете – кто это, откуда? Сочная, полная сил, молодость на фоне немощи смотрится в столь выгодном свете, что мне становится жалко самого себя.
Вдова Фальк, меж тем, замечает меня в окне, и тычет пальцем, и трясёт рукой, и осклабляется невообразимо отчаянно глупым оскалом. Смятённый, дрогнувший, приподнимаю руку в ответ: странный дикий спектакль, срежиссированный неумело, неискренне… Схлынь, наваждение! Так я и поверил – неумно, дёшево, скользко. Сейчас, сейчас поднимется она и пойдёт задорно, поскачет, да, поскачет молодой кобылкой, как всегда, от самого рождения до сих пор, по жизни… Ведь встанет же, ведь пойдёт?!
Замечает меня и девица – пристальный, но молниеносный взгляд обжигает до самого нутра! Мгновенный резкий поворот, и вот уж старуха под скрип колёс увозится совсем в другую сторону от ворот, вглубь парка параллельно ограде, куда отходит широкая, обсаженная криво подстриженными кустами сирени, аллея. Очень скоро туман, облизываясь, пожирает обеих.
Ток сквозь тело, и всё оно приходит в движение. Если б не увезли так вероломно её, то она бы поднялась… Поднялась, известное дело! Зачем увезли её? И кто это возле? Смугловатое круглое лицо, тоненькая фигурка, и, кажется, глаза чёрные… Чёрные! А взгляд? Не прожёг ли насквозь он, не заставил ли трепетать? Любопытство пленяет, рождается предвкушение: мне вдруг становится занятно возобновить утомительное прежде знакомство с вдовой Фальк, расспросить её, о чём прежде расспрашивать не доводилось; сказывали, бравый супруг её во время гренландско-новогвинейской войны зашиб кулаком сразу пятерых поляков.
Действие, поспеешь ли за мыслью? Скорее, скорее! Старуха узнала меня, подняла руку – я подойду к ней, отобью поклон, выдавлю из себя пару не бог весть каких любезностей: «Как вы хороши нынче – посвежевший цвет лица, сияющий взор, бархатистая кожа…», а сам буду коситься в сторону, совсем на другую, и виниться самому себе, какой же всё-таки вздор несу.