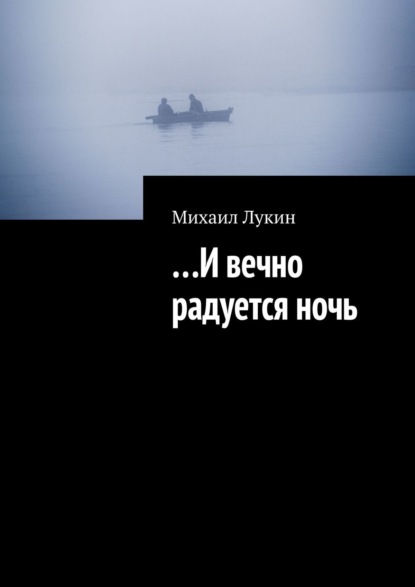По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
…И вечно радуется ночь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мигом к шкафу – отпираю, осматриваю пальто… Увы, оно всё побито молью – без единого живого места; мои желания обращаются в прах.
– Доктор Стиг, будьте любезны одолжить мне пальто?..
Оборачиваюсь – его уж и след простыл! Был он здесь, человеком или привидением – не знаю, однако теперь его нет, как не бывало, ни его, ни Фриды. На краешке стола – холодный кофе, таблетки, стакан воды…
Какие могут быть таблетки, о чём вы! У меня нет пальто, я прикован к собственной комнате, я одинок и несчастен, как щербатый каменный Самсон – но у того хоть есть лев…
Одинок и несчастен, в самом деле? Ха-ха!
Трясу головой, до боли, до тех пор, пока земля не начинает уходить из под ног.
Что за чёрт – с коих это пор досадует Лёкк на одиночество? Либо старость берёт своё вместе с болезнями и немощью, либо с головой у него и в самом деле беда. Одинок и несчастен! Подумать только!
***
Обед, в кои-то веки, принимаю в столовой среди насельников, выхожу, так сказать, в общество; завтрака даже не нюхал, и всё для аппетита! Острословами прозвана столовая весьма звучно – «кают-компания», но откуда это повелось – неизвестно, хорошая память, как и любой предрассудок, у нас не в чести.
Признаться, здесь замешана корысть: с утра ходил сам не свой, была нужда свидеться со старухой Фальк, а она – душа общества и всегда там, где больше всего народу, а в столовой как раз таки и собираются почти все, кроме лежачих да мизантропов-меланхоликов, вроде меня. Но ирония судьбы такова, что старухи там не застаю; видимо, она отобедала и уже ушла, либо ещё не появлялась. С кем ни пошепчись – разводят руками: дескать, и сами поражаемся! «А не видел ли кто нечто любопытное с утра, кресло на колёсах на аллее или же?..». – «Что вы, что вы! Такой туман, хоть глаза выколи…». Ну, что ж…
Выжидаю, разглядываю общий стол – уродливо-громоздкое дубовое чудище – нахожу холодное, сиротски пустое место вдовы. Нетронуты и прибор, и аккуратная, в атласной манишке, стопка Карлов, Людовиков и прочих – до и после трапезы она всегда имеет обыкновение раскладывать пасьянсы и оказывать насельникам определённые мистические услуги. Вот мечет она землистыми руками карты; вот даёт толкование червовой семёрке в короле треф; а вот, с самым что ни на есть серьёзным видом, напустив страху, упреждает товарку, госпожу Визиготт, такую же глубоко «молодую» особу, о пиковой даме, сопернице. Перемежаясь утренними туманными образами тела в кресле, это так и стоит пред глазами – отныне, видимо, навсегда!
Вздрагиваю невольно: навсегда?!
Вдовы нет, но появится ли она здесь вновь? Пусть бы и не теперь, а иным, солнечным и весёлым, не как нынешний, деньком, завтра либо через недельку-другую, да хоть когда… Наверное, лучше внушить себе, что да, разумеется, ещё увидимся – так легче! Наверное, вера лучше сомнения: всю жизнь купался, как в чистом источнике, в сомнениях, и вот по-детски простодушно сокрушаюсь о своей наивности…
– А, Лёкк! Миккель Лёкк!
…Впрочем, не одному мне наброшена на глаза паволока тьмы, не одного за нос водят противоречивые сладкоголосые ощущения – порой кажется, будто мы окружены ими, варимся в мутном бульоне забывчивости, чтобы быть поданными в Родительский День родственникам нашим к замечательному сервированному столу…
– Лёкк! Добрый день!
Вздрагиваю: то, чего никак не хотел, произошло – я замечен окончательно; из задумчивой пыльной, на обочине, статуи обращаюсь средоточием внимания, как новый ученик в классе, и тут же, смущённый, отступаю в серую тень. Я всего лишь желал переговорить с госпожой Фальк, но раз уж её тут нет, то позвольте мне…
– Добро пожаловать! – чрезвычайно тучный, с лоснящимися воском щеками, господин Фюлесанг всеми правдами и неправдами протискивается ко мне. – Господа! Ведь это Миккель Лёкк! Посторонитесь, посторонитесь же!
Аппетит улетучивается, но уходить поздно, обед подан – слышу, что и без старухи вкруг стола не холодно и полыхает зарница спора. Сжимаю прелую Фюлесангову ладошку, учтиво киваю остальным, отвечаю, как могу, на любезности, присаживаюсь… Что за концерт? Первая скрипка – немец, герр Шмидт, мой знакомец и, прежде, до Хёста, также и сосед, обитающий нынче в другой, лучшей комнате; он составлял мне компанию в посиделках с сигарами, за что ему, полагаю, прилично досталось от доктора – здоровье, понятное дело, нужно беречь, тем более безнадёжно утерянное. Потом наши пути разошлись – его состояние ухудшалось одно время, прикованному к постели «под страхом смерти» к нему не пускали гостей, но теперь, слышу, голос его вполне бодр. Разве что… выглядит он нынче куда хуже прежнего, должен заметить, с изрешечёнными глубокими морщинами щеками, с тёмной, в старческих пятнах, плешью, невыразительными, тусклыми глазами… а между тем он немногим старше меня. «Послушайте, послушайте, – шепчет мне в ухо Фюлесанг, – вас заинтересует…». – «Чем же?». Шмидт рассуждает о войнах, политике, и роли своих соплеменников в истории; он говорит со знанием дела и с изрядной осведомлённостью, из чего Фюлесанг заключает, что Шмидт регулярно штудирует свежую прессу. «Немногие здесь получают газеты, – вздыхает Фюлесанг. – Конечно, всё это для отвода глаз, чтобы не сесть в лужу перед обществом… Впрочем, это не облегчает моего положения…». – «Положения?». – «Да, Лёкк, я умолял его выделить и мне хоть подшивочку, но он делает вид, будто всё это вздор и ничего такого нет и в помине!». Соглашаюсь: Шмидт – человек до неприличия скупой, что есть, то есть. «Вот-вот!», – Фюлесанг вдруг лиловеет, будто бы наверняка зная, что оговорил невиновного и умолкает.
Противостоит Шмидту профессор Сигварт, сухонький долговязый старичок с клочковатой растительностью под носом и на подбородке и острым живым, чуть смеющимся, взглядом, похожий на хитроумного идальго Дон Кихота со старинных гравюр; он также увлёкся и говорит, как заворожённый. Уж этому-то, думаю с некоторой спонтанной симпатией, газет наверняка не жаль!
– Германия, милостивые государи мои, – вполне себе здраво провозглашает Шмидт, – суть средоточие всех созидательных сил Земли и духа модернизма, не чурающаяся, в то же время, великого прошлого, именно на нём, собственно говоря, и поднимающаяся! Молодая поросль пробивается на железном поле в огонь костров, через марксистское мракобесие и монархическую немощь. Никому не под силу остановить этот бурный рост! Если Британцы задумают обрезать эти ростки, если эти невнятные Болдуины-Чемберлены или кто там у них ещё есть, поднимут на них руку со своими ножницами, эту руку им оторвут; если поднимет голову какой-нибудь француз, возомнив себя новым Бонапартом, найдутся люди к востоку от Эльзаса, кто даст ему по этой голове. Америка слишком далеко и занята исключительным самолюбованием и самовлюблённостью, доллар стал им богом и совестью, будь они прокляты. Рим? Засилье глупости и порока, говорю я вам. Рима больше нет! Он закончился в тот момент, когда все эти Медичи и Сфорца стали сажать в Ватикан своих родственников. Все эти государства нелепы и ничтожны по сравнению с юным, полным сил народом, набирающим силу на своей земле, у них нет будущего, у нас, германцев, есть.
– Всё это близко к истине, – не менее здраво возражает профессор, – если бы не одно «но». Как бы ни были… слабы указанные вами нации, объединившись, они ни в коем разе не дадут Германии, обрастя мясом, вновь осознать себя империей – наивность дорого им обошлась, ох, и дорого же – никто не будет более заигрывать со львом, место которому – в клетке.
Шмидт только и усмехается:
– В клетке, ха-ха! А теперь Германия не империя ли?
– Трудно сказать…
– …Пережив позор, обновившись-то, Фениксом восстав из компьеньского пепла… Быть может, вы чего не заметили? Лев в клетке – надо подумать! Раскройте глаза!
– Трудно сказать, – осторожничает Сигварт, – экономика демонстрирует несомненный рост после всех невзгод – инфляции и так далее… национальный дух опять же…
– …И новый национальный лидер, вождь, ведущий страну к доселе невиданным высотам?!
– Вождь… Возможно…
– …И все программы, союзы, прокламации! Каково!
– …Но всё же союзники…
– Ах, союзники! Антанта! Чепуха! – клокочет Шмидт. – Чепуха, говорю я вам! И привязались же к этим союзникам! Где они, где, скажите на милость?! Заняты грызней, самолюбованием, отягощены волнующимися колониями… Да и вовсе уповать на согласие между бывшими союзниками – глупость, никогда не быть им настолько близким, чтобы дать отпор бравому пруссаку.
Лицо Сигварта проясняется, он держит удар:
– А не забыли ли вы, Шмидт, одного восточного зверя, который всегда дремлет до поры, пока не приходит время спасать Европу от очередного антихриста? Боюсь, забывчивости вашей не разделяют бравые прусские собратья – бывало, им доставалось, когда они, полные самонадеянности, заходили в тот лес, где сей зверь обитал.
– Вы имеете в виду польского орла? – со всей серьёзностью спрашивает немец. – Ну, так орёл – птица, а вовсе не зверь.
Приглушённый смех за столом.
– И ребёнку ясно, что я имею в виду русского медведя, – улыбается профессор, и для пущей наглядности бросает взгляд на меня.
Теперь очередь смеяться Шмидта:
– Что я слышу, дорогой профессор, вы серьёзно? Вот уж не думаю, будто мы когда-нибудь вспомним о данном звере, уверяю вас, и скорее турки вновь обретут некое подобие силы, нежели русские вернут себе былое могущество.
– Турки и рядом не стояли рядом с русскими, – с претензией утверждает Сигварт, – даже когда они держали в страхе всю Европу и могли, как по паркету, с музыкой парадным маршем, от Босфора дойти до Вены, русские побеждали их. Но речь вовсе не об этом – я, в свою очередь, уверяю вас, что Германии не бывать более настолько сильной, чтобы дойти до мирового господства. Великие державы неохотно разыгрывают такие карты, и едва только голова немцев начнёт подыматься, как против них возникнет коалиция, равной какой прежде не было даже и в прошедшую войну.
Наконец – я всё ждал этого, и вот случилось! – речь за столом заходит о двумя годами ранее ставшем канцлером в Германии Гитлере. Но помимо виновато шепнувшего мне: «Гитлер, всё-таки, голова!» Фюлесанга, никакой поддержки Шмидт здесь не обнаруживает – общество вдруг оказывается слишком увлечённым трапезой. И в это время я чувствую на себе пристальный взгляд бывшего немецкого подданного и бывшего моего приятеля. В этой среде мы – единственные иностранцы, и он, разумеется, ищет у меня союза, несмотря на то даже, что только выставил в невыгодном свете Россию, спутав её с Польшей. Все норвежцы за столом единодушно высказались Гитлеру в неприятии, а профессор Сигварт изрёк, как на месте «этого австрийского солдафона-баталиста» в более выгодном свете смотрелся бы кто-то более культурный и образованный, например, писатель либо учёный:
– …Хоть в целом политика его лично мне безразлична! – и тут же примеряется к этому посту парой-тройкой собственных, куда более, по его разумению, достойных кандидатур, Эйнштейном, вот, либо известным Фейхтвангером…
Благодарение Богу, что не Кафкой!
– Нет, ну по сравнению с этими, Гитлер – душка! – беззаботно мило, стараясь приободрить немца, болтают дамы, но лишь приводят бравого антисемита Шмидта в инфернальное бешенство:
– Фейхтвангера?! – побелев, кричит он, демонстрируя обществу совершенное знание творчества данного литератора. – Этого жида! Нет, вы все не в своём уме!
…А сам между тем под столом отчаянно давит ногой мне на носок башмака: пробудитесь же, впавшие в летаргию политические чувства – ну же, Лёкк, ну… Что ж поделать: аргументы, верно, на исходе, и, подобно утопающему, он немолчно взывает к руке божьей, к спасательному кругу, ко всему, что может явиться на помощь, если это уже не агония.
Понимаю, чего хочет от меня Шмидт, но сам уже давным-давно далеко отсюда, в своей комнате, курю свою душистую сигару, вдыхаю чад. Когда воспаляется, нарывает тоска, мне решительно безразлично, разгорится ли война, и кем будет развязана, – Гитлером или королём Болгарии, – кто на кого нападёт первым, – люди, разбивающие яйцо с острого конца или разбивающие с тупого, – и сколько народу пожрёт это всепоглощающее пламя. Ум сдаётся на милость желаниям, стремится к отдохновению, свет потихоньку начинает уничтожать меня, делать бессильным, и обращается мне смертельным врагом.
И мне теперь точно не до Гитлера, не до политики, не до польского богомола! Пропади оно всё пропадом!
– Шмидт, у вас есть пальто? – морщась, спрашиваю.
Сигварт уже посмеивается, предвкушая полный разгром противника; он полагает Лёкка за своего союзника, будто бы с намерением начал тот нести всякую чушь не по делу.