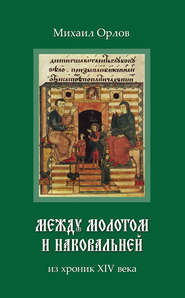По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Смерть на Босфоре, из хроник времен Куликовской битвы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однажды майским благоуханным вечером, когда на небосклоне только взошел молодой месяц, Кочевин-Олешеньский вместе с Кустовым коротали время в одной из харчевен на центральной улице города – Мессе, тянувшейся от Адрианопольских ворот до развалин Большого дворца.
Расположившись у окна (там было посвежее), заказали жареной свинины и белого македонского вина. Народ в заведении собрался разношерстный: смуглые обветренные рыбаки, молодые люди, ищущие сомнительных приключений, солдаты-наемники константинопольского гарнизона, мелкие торговцы, паломники с постными лицами, с жадностью ловившие запах жаркого, но вкушавшие одну постную пищу – им не полагалось поганить тело скоромным до исполнения обета, данного Господу или Пресвятой Богородице. Зато на обратном пути из святых мест они своего не упустят и уж гульнут во славу Божью, коли останется на что…
Рыжий певец в грязном хитоне с подозрительными бурыми пятнами бренчал в углу на кифаре, пытаясь развлечь посетителей, но постоянно сбивался и горланил невесть что. Кустов, как умел, переводил слова песен, но далеко не все жаргонные словечки понимал и тогда нес отсебятину, от которой у Юрия Васильевича глаза на лоб лезли. К примеру, боярин долго размышлял над строфой: «Я люблю тебя за глаза камышовые, которые поедаю с чесночной похлебкой…» – и не мог постичь ее смысл, как ни силился.
– Впору заплатить ему, чтобы только не портил аппетит… – наконец заметил толмач.
Юрий Васильевич оставил предложение без внимания и перевел разговор на другое.
– Смотрю я на греков и дивлюсь: турки отбирают у них город за городом, а они словно не замечают того, грызутся меж собой по церковным вопросам, в которых и священнику-то не разобраться. Ерунда какая-то… Коли в Христа веруешь, так о чем спорить?
– Не скажи, господин… Для них это важнее важного, они считают, что лучше отдать тело турку, нежели душу – дьяволу.
– Может, оно и так, только сказывают, что у императора во Влахернском дворце чуть не каждый день празднества. А чему тут радоваться? Мыслю: не устоять Царьграду – падет, как пал град Троя…
– Поживем – увидим, – криво улыбаясь, меланхолично молвил толмач.
Меж тем певец начал сипеть, а потом и вовсе притих, только кое-как перебирал струны кифары. Тогда трактирный служка вынес в залу два масляных светильника, а затем невесть откуда появилась молодая женщина в длинной тунике, называвшейся столой, поверх которой была накинута накидка, закрепленная на правом плече застежкой – фибулой. Ее пухлые вишневые губы приковывали к себе взгляды мужчин, как и жгуче-черные волосы, переливающиеся в неверном свете пламени. Молва утверждала, что для того, чтобы получить такой цвет, гречанки втирали в голову вороньи яйца или сурьму, но так ли это, русские не ведали, да и какое им дело до того…
Окинув посетителей оценивающим и насмешливым взглядом, гречанка щелкнула пряжкой, и темно-малиновая мантия, покрывавшая ее, шурша, соскользнула на пол, а еще через минуту за ней последовала стола. По залу пронесся вздох изумления. Совершенно нагая, если не считать медной цепи на талии да серебряного крестика на шее, женщина пустилась в пляс, пощелкивая пальцами, покачивая бедрами, звонко и задорно цокая языком. При этом ее немигающие, как у ящерицы, глаза блуждали по лицам посетителей, завораживая и околдовывая.
У Юрия Васильевича дух перехватило. Васька Кустов что-то тараторил ему на ухо, но боярина так разобрало, что ничего не слышал да и не желал слышать. Жадным сластолюбивым взглядом впился он в танцовщицу, побывавшую, верно, в тысячах мужских объятий, но что ему до того. Кровь, напитанная вином, ударила в голову, хотя был совсем не пьян, а так, маленько навеселе, но чуть-чуть, самую малость. В общем, воспылал такой дикой животной страстью, которой никогда не испытывал, даже в молодости.
Когда плясунья, притомившись, остановилась перевести дух, боярина словно бес в спину толкнул: вскочил, схватил узкую тонкую руку и жестом пригласил разделить с ним трапезу. Снизошла и словно из милости присела на самый кончик скамьи в том виде, в котором и танцевала. Юрий Васильевич ощутил запах женского пота, от чего совсем одурел. После ужина не отказала и в другом – согласилась подарить свою любовь за золотой, что по константинопольским ценам было совсем не дешево. Обрадовался, как ребенок, засмеялся, засуетился, стал приглаживать бороду. Ему уже казалось, что единый час с нею стоит вечного блаженства.
Провел ночь у ее дивных колен, не ведая, что связался с женщиной, которая не только обещает вечное блаженство, но сразу дает многое, чтобы потом как бы ненароком забрать всю душу без остатка. Утром, чувствуя в теле сладостную усталость, Кочевин-Олешеньский вышел от танцовщицы и увидел на крыльце ее хижины Кустова, уста которого кривила плутовская ухмылка.
– Ну что, доволен? – как будто боярин ему ровня, полюбопытствовал толмач.
Ничего не ответил, только улыбнулся полусумасшедше, словно юродивый. В то утро жизнь представлялась Юрию Васильевичу такой счастливой и такой сказочной, что и словами не передать… Некое волшебство связало его с незнакомой дотоле женщиной и перевернуло душу.
Захотелось вкусить того же и Ваське, а человеком он был бессовестным да лукавым, как и большинство толмачей, наслушавшихся всякой всячины. Проводив боярина, не удержался – вернулся в ту самую хижину, почитая, что робость тут неуместна, и льстя себя надеждой, что не прогонят и все останется в тайне.
10
Получив загадочное и странное известие от своих тайных посланцев о литовцах в ставке Мамая, Дмитрий Иванович призадумался. Он полагал, что отношения с Ордой урегулированы и темник намеревается добивать Тохтамыша, потому влез в литовские дела, но оказалось все совсем иначе: Мамай рядом, под боком с большой армией и у него в стане люди Ягайло…
Собрав богатые дары, московский князь призвал к себе опытного, не раз испытанного дипломата Захария Тютчева, приятеля Кочевина-Олешеньского, и велел:
– Повезешь Мамаю новгородский «черный бор»[33 - Новгород платил дань в казну Москвы, которая, в свою очередь, вела расчеты с Ордой. Дань собиралась с так называемых черных людей, преимущественно крестьян и посадских, потому и называлась «черным бором».], но это так, для отвода глаз. Главное – проведай о его намерениях, ползай перед ним и его мурзами на карачках, целуй им туфли, лижи задницы. Да не жалей языка! От этого зависит судьба Москвы. Коли возможно избежать войны, заплатим «выход», какой потребует, даже такой, как при Узбеке…
– Все исполню, государь, не сомневайся, – заверил Захарий.
В разгар лета, когда зацвели липы, Тютчев переправился через Оку. Степные травы в человеческий рост шумели под ветром, несущимся от горизонта до горизонта, словно морские волны, но русским было не до этого приволья, не до этой красы и благодати – торопились. Вставали чуть свет и, горяча коней плетьми, продолжали путь, останавливаясь лишь для краткой трапезы или чтобы накормить и напоить коней. С наступлением темноты, выставив сторожей и подложив под головы седла, засыпали мертвецким сном под зловещим половецким небом, на котором порой вспыхивали зарницы – предвестницы беды.
Несколько раз путников останавливали степняки, лица которых ничего не выражали. Они так внезапно появлялись, что казалось, вырастали из земли на своих низкорослых лохматых лошадках. В те времена волка советовали остерегаться спереди, коня – сзади, а ордынцев – со всех сторон. Иногда в глазах кочевников мелькало презрение, но только на миг, а может, то только чудилось… Услышав, к кому направляются путники, их отпускали. Мамай имел такую силу, что хозяйничал в Причерноморской степи, как у себя в юрте, и мог дотянуться до горла любого здешнего обитателя – навлечь на себя его недовольство остерегались.
Благополучно добравшись до ставки, Тютчев объявил встретившему его мурзе в лисьей остроконечной шапке, что доставил часть серебра из московской дани, остальное подвезут позже. Указав русским место для стоянки, ордынец поспешил к своему господину, и тот принял Захария.
Коренастый, жилистый, с недавно начавшей пробиваться сединой в черных жестких волосах, жидкой бородой и золотой серьгой в левом ухе, темник восседал на иранском ковре в шелковом халате, который стягивал пояс из зеленой булгарской кожи, усыпанный драгоценными камнями. Одной рукой он облокачивался на круглые парчовые подушки, а другой опирался на эфес дамасской сабли, клинок которой до половины был вонзен в землю. Кроме него, посланец московского князя никого не увидел – ни советников, ни толмачей, ни даже телохранителей, что казалось удивительным. Впрочем, личная смелость и твердость характера часто являлись залогом успеха, и Мамай в полной мере обладал этими качествами. В довершение к тому он верил в свою звезду, что тоже немаловажно.
За время «размирья» в Сарае-Берке сменилось около двадцати ханов, от некоторых из них не осталось ничего, кроме монет с именем, но Мамая это почти не коснулось. Ни на кого не обращая внимания, железной рукой он правил западной частью улуса Джучи сперва от имени хана Абдуллы, потом от имени его сына Мухаммеда-Булака, а теперь от имени малолетнего Тюляка. Так или иначе, но врагов у него хватало, поскольку он забрал себе слишком много власти, а сам был половецкого рода Кият и не имел права на престол. Понимая это, Мамай довольствовался должностью темника и званием эмира. Своим возвышением он был обязан случаю – дочь Бердибека[34 - Бердибек – сын Джанибека, хан Орды в 1357–1359 гг.], двенадцатого хана после Батыя, полюбила его и уговорила отца выдать ее за него. Вместе с ее рукой он получил должность беклярбека, одну из главнейших в Орде.
Но вернемся к текущим событиям. Склонившись до земли, посланец московского князя молвил:
– Великий эмир, покоритель больших и малых народов, несравненный и непобедимый воитель! Владимирский и московский князь Дмитрий Иванович шлет тебе привет и серебро…
Окончив речь, Тютчев поднял глаза, и когда его взгляд встретился с тигриными с желтизной глазами Мамая, ему показалось, что его обдало жаром преисподней. Захотелось перекреститься и прочесть» Отче наш», однако сдержался (не к месту), сделал усилие, стряхнул с себя наваждение, еще раз низко поклонился, хлопнул в ладоши, и в шатер внесли ларец с серебром.
Темник милостиво принял дань, поинтересовался здоровьем князя и вяло, без видимого интереса расспросил о том, что нового на Руси. На все вопросы Тютчев отвечал без запинки, ибо готовился к подобному разговору.
Несмотря на это, Мамай отлично видел, что русский пытается ввести его в заблуждение и сбить с толку своими лживыми речами, а потому не поверил ни единому его слову, но не показал того и небрежным движением головы отпустил. Опять кланяясь, семеня и пятясь, как то полагалось при ордынском дворе, посол выскользнул из шатра…
Теперь можно было заняться тем, ради чего и приехал. Принялся обходить приближенных темника, одаривая каждого. Некоторые смотрели на него брезгливо, но встречались и такие, во взгляде которых читалось подобие сожаления. Подарки сделали свое дело: Тютчев проведал, что ордынское войско собирается идти на Москву, да не одно, а вместе с литовцами. Самонадеянный и беспечный мурза Тимир, уверенный в будущей победе, открыл даже, что через боярина Епифана Киреева ведутся переговоры с Олегом Рязанским о присоединении последнего к анти-московской коалиции. «Узнает об этом Дмитрий – струсит и бросится в бега», – сощурился мурза, наблюдая, как изменилось лицо боярина при этом известии.
И правда, Тютчева аж озноб прошиб, хотя в шатре было скорее жарко, нежели холодно. Получалось Бог знает что…
В ту же ночь он послал скоровестника к великому князю, а сам (авось обойдется) остался у Мамая, надеясь выведать еще что-либо.
11
По поручению своего шурина, великого князя Ягайло, Войдылла спешил в столицу Ордена Мариенбург. Ехал кратчайшим путем – узкими лесными дорогами, на которых бесчинствовали как литовские бояре и немецкие рыцари, охотившиеся на людей, как на зверей. Тут всякий грабил слабейшего и искал себе убежище от того, кто сильнее, потому посланец литовского князя и сопровождающие его слуги скакали в боевых доспехах, что было довольно утомительно, но терпели.
Под мерный цокот копыт Войдылле вспоминалось прошлое, как начинал службу у Ольгерда и рисковал жизнью ради него. Тот оценил его преданность и сделал сперва постельничим, а потом дал ему город Лиду. Наконец, князь оказал великую честь – выдал за него свою вдовую дочь Марию. Войдылла ненавидел жену – тощую, крикливую, взбалмошную дуру, хотя ради этого брака расстался с прежней любимой женой. Проклятая жизнь!
Наконец показалась дозорная башня Мариенбурга: на ней развевался стяг великого магистра с широким черно-золотым крестом, в центре которого красовался орел.
Столица Ордена производила сильное впечатление. Сам вид ее внушал уважение, даже трепет. Она состояла из Нижнего города (Предзамья), Среднего и Верхнего, красные кирпичные стены которых поднимались все выше и выше, вырастая из земли и упираясь в низкое прибалтийское небо. То там, то здесь бросалось в глаза смешение сарацинских, итальянских, немецких архитектурных стилей. Мариенбург представлял из себя монастырь, крепость и дворец одновременно.
Однако не только стены защищали город, но и сама природа. Логово рыцарей-монахов находилось среди болот на правом берегу реки Ногат. Климат в округе был гнилой и нездоровый – жители окрестных деревень редко доживали до сорока. Ни одна армия не могла долго осаждать Мариенбург, в ее рядах неизбежно начинались болезни, перераставшие в эпидемии. Что же касается обитателей замка, то первоклассные системы отопления, вентиляции и окуривания помещений специальными травами помогали им переносить здешний климат, что приписывалось покровительству Девы Марии. В течение всего средневековья никто не смог силой овладеть этой твердыней.
Мариенбург был полон тайн, мистики и легенд. Некоторые утверждали, что из дворца великого магистра до соседних замков ведут подземные ходы, а подвалы Верхнего замка, в которых томились враги ордена Пресвятой Девы Марии, имеют до пяти этажей вглубь, но так ли это, доподлинно никто не ведал. Ни один из заключенных подземной темницы не вышел на волю.
Войдыллу поселили в Среднем замке, в просторных сводчатых покоях, предназначенных для гостей из Европы, которые пустовали. Стояла весна, и распутица не позволяли воевать. Искатели приключений стекались в Мариенбург лишь в разгар лета, когда дороги просыхали, или в начале зимы, когда реки и болота покрывались льдом и предоставлялась возможность вести боевые действия. Тогда тут можно было встретить славнейших и благороднейших рыцарей из Германии, Франции, Англии, Богемии, Австрии, Шотландии и Италии… Пруссия была местом паломничества скучающей европейской знати. Останавливались здесь и коронованные особы. Борьба с язычниками представлялась им делом чести, и они не жалели для нее ни денег, ни самой жизни. Впрочем, возможность поучаствовать в изысканных пирах и охотах привлекала в Орден не меньше, чем война с врагами Господа.
Орденское государство находилось в зените своего могущества. Ему принадлежало более сотни каменных замков, девяносто городов и тысяча четыреста деревень, заселенных колонистами из Германии, не считая польских и прусских селений. Орден всячески содействовал развитию земледелия, вел большие осушительные работы, строил плотины, прорывал каналы. Братья культивировали неизвестные здесь дотоле растения: перец и шафран, разводили виноград и тутовые деревья, а в подвалах замков всегда стояли бочки с вином.
В отличие от других европейских государств Орден единственный не имел финансовых проблем, торговля и ремесла процветали на его землях. Из Данцига и Кенигсберга кроме дерева, зерна, сукна вывозили и теплый камень – янтарь, который, как утверждали, топит снег. Тевтонский орден считался вассалом императора Священной Римской империи и римского папы, но фактически не подчинялся никому. К сюзеренам обращались только для разрешения внутренних споров между должностными лицами Ордена, что случалось довольно редко.
Братья-рыцари, наполовину воины, наполовину – монахи, даже ночью не снимали сапог, дабы быть готовыми к отражению нападения, а в их спальнях с вечера до утра горел свет – на всякий случай… Тем не менее то ли от многочисленных гостей Ордена, то ли от зажиточных горожан, но братья все более заражались светским духом, который разъедал монашеский аскетизм.
В первый же день по приезде Войдыллы его посетил великий ризничий Конрад Цольнер фон Ротенштейн, суровый воин с глубоким бурым шрамом через все лицо, заведовавший финансами тевтонского государства, и осведомился:
– Христианин ли ты, человече? – и, услышав утвердительный ответ, спросил, что ищет гость во владениях ордена Пресвятой Девы Марии?
– Любви и мира, – лаконично ответил посланец Ягайло и изложил предложение литовского князя.
Великий ризничий лишь кивнул: «Вот и среди литовцев начались раздоры. Славно! Этому уже давно пора случиться», – и поспешил к главе Ордена.