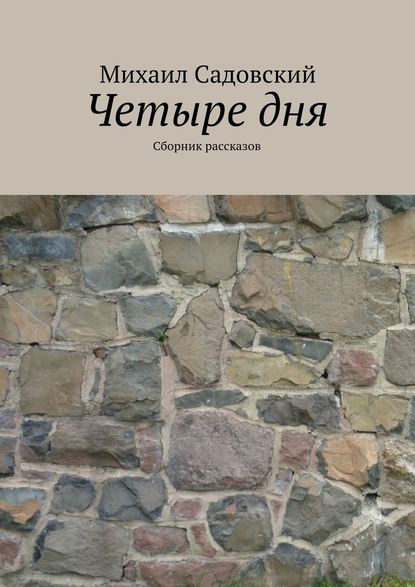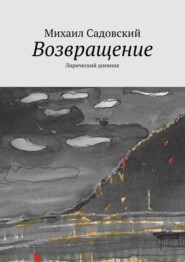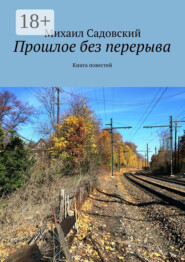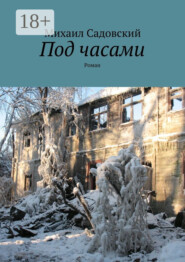По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Четыре дня. Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, тебе-то в чём виниться? Так легла карта!
– Не в этом дело. Я от себя освободиться хотела… А он мне, знаешь, что ответил? Я же не слышала тогда ничего, как они орали друг на друга наверху у люка… Он сам сказал мне, Фёдор: «Я бы тоже не полез. Анисимов, лейтенант мой, достал пистолет и говорит: «Лезь, сука! Мне что, под трибунал идти, что ли? Сказано: сдать по счёту! Лезь! Не то я тебя шлёпну…«» Он такие слова сказал неприличные… Я тебе повторить не могу… Я тогда плакала очень. Представляешь, я ведь никому не рассказывала, даже детям, да им и не нужно. Тебе вот первому… Так вышло… Ты меня всегда разговорить умеешь…
«Циркуль»
«Отличная позиция, – думал он, разглядывая из окна двор: напротив – глухую стену приземистого кирпичного дома, слева – трёхметровый забор каменной кладки начала прошлого века, справа – створ узких ворот с разведенными в стороны чугунными крашеными-перекрашенными и облепленными серой пылью по чёрному лаку решётками. – Здесь можно долго продержаться… если только не снайпер сверху, с крыши, или танк подгонят к воротам, в лоб… А так никому не подобраться… На гранаты им рассчитывать нечего…».
Сзади него шаркали шаги, какой-то лёгкий говорок шелестел мимо… Хихикнули девчонки под стук каблучков по щелястому, щербатому паркету… Он внезапно взмок, почувствовал такое категорическое выпадение из окружающего мира, что, казалось, не в состоянии будет вернуться… «Какая позиция? Какой снайпер? Какой танк?.. Если бы они, проходя мимо, могли заглянуть сквозь меня моими глазами, что я вижу, – точно бы ужаснулись и отправили в психушку…».
По этому коридору, отрезанному от ротонды параллельно тянущейся вдоль наружной стены фанерной перегородкой, бесконечно сновали из старого корпуса в новый. А саму ротонду бывшей барской усадьбы тоже разделили на комнаты-лаборатории, из которых сквозь хлопающие двери сквозняк захватывал запахи и смешивал здесь: резкий аммиачный, приторно-сладкий черёмуховый, горелый, густо заправленный пылью от расплавленных электродов сварки… Это был «циркуль» – самый короткий, удобный и спасительный в дождь или мороз путь… по дуге градусов в двести…
Но взгляд его всё никак не мог вырваться из решётчатого старинного переплёта высокого окна: ровно покрытые пылью с двух сторон, ставшие дымчатыми стёкла, и сквозь них вдруг равнозначно затуманенное временем виделось: такой же полукруглый двор, забор чудовищно крепкой кладки, которую не брал 76-й калибр, створ ворот, решётки, ротонда, заложенные мешками окна, щебечущая немочка на каблучках, прорывавшееся сквозь кашель ворчание старухи, наверное, матери, позиция. Запах весны, черёмухи, палёного перекаленного металла… Конец войны… и он уже капитан. Кого не уложило навсегда, росли в чинах быстро.
А потом вторая картинка, только он снаружи, во дворе… В «циркуле» заложены пролёты окон, а пулемёт такой же, как у них, и он знает, что те могут долго продержаться, а у него рота… да что за рота – одни мальчишки срочной службы… мир же! Война почти десять лет, как закончилась, и что они тут делают, выглядывая из-за мощных столбов?! И он не хочет учить жить ни тех, что там укрылись, ни тех, что за спиной. Он выпал из времени… навсегда…
Теперь он старше тех, что с ним рядом, в аудитории, на десять лет, и седина у него в висках так нравится девочкам, вчерашним школьницам…
Он вытягивает наконец взгляд из окна, как штык из осевшего тела, и грузно идёт на бесшумных толстых подошвах модных полуботинок по «циркулю» до конца, а там – через бывший чёрный ход на улицу, перешагивает через лужу и сразу за углом слева ныряет в тамбур, по ступенькам в подвал, опять налево… За двойной дверью в жёлтом свете предбанника два шага – и ещё одна дверь, а там сразу длинное тело тира с яркой противоположной стеной в трёх зебровых кругах…
– Здорово, Михалыч, – говорит он и протягивает руку сидящему у стола в полутьме человеку.
– Навестить собрался? – Отвечает тот ехидно. – Мне гостями заниматься некогда…
– Не ворчи! – Не обидевшись, отвечает вошедший. – Не было сил…
– А сейчас где набрался? – Уже зло возражает сидящий. Он пристально смотрит на молчащего вошедшего, потом грузно встаёт, прихрамывая, подходит к железному шкафу, открывает скрипучую створку и вынимает оружие. Медленно возвращается к стойке, кладёт пистолет, рядом с ним перевёрнутую пустую крышку от коробочки, из которой отсчитывает в неё девять патронов, и кивает головой: – Иди, работай, у меня группа в два тридцать…
– Я успею, – отвечает вошедший, подходит с стойке, заряжает пистолет, не глядя, на ощупь, ловко и бесшумно. Хозяин, прихрамывая, направляется к трубе, но пока он медленно совершает свой короткий путь, один за одним гремят выстрелы и вошедший кладёт оружие…
– Спешишь? – Ворчит хозяин тира. Он несколько мгновений молча смотрит в трубу и совсем другим голосом произносит почти восхищённо: – Чёрт!
– Дай ещё! – Говорит вошедший и протягивает руку. Хромой опять тащится к шкафу, вынимает новую коробочку и, не раскрывая, вкладывает в так и висящую протянутую руку. Вошедший снова поворачивается к стойке, разрывает с треском бумажную ленту, опоясывающую коробку, и наполняет обойму… В тире тихо, и выстрелы сливаются в один. Он снова заряжает и снова палит, и снова, и снова, кажется, в каком-то запое, остервенело, не целясь, без перерыва, нажимая и нажимая на спусковой крючок и возвращая чуть подпрыгивающую, вытянутую на всю длину руку в её необходимое исходное положение, пока не опрокидывает вверх дном пустую коробку от патронов… Тогда он кладёт пистолет и поворачивается уходить…
– Чёрт! – опять произносит хромой, отрывая взгляд от трубы и пожимая протянутую руку: – Один в шестёрку засадил на четыре, – и не слыша ответа, добавляет: – Вот и на соревнованиях так подсадишь… Тренировка, понял? Тре-ни-ров-ка!
– Понял, – говорит уходящий. – Я так там натренировался, что никак забыть не могу… Понял?
– А ты не пали в прошлое! – Возражает хромой. – Оно к этому делу не чувствительно, я тебе скажу. Со зла рука дрожит… Ты в мишень целься! А не в призрак, понял?
– Ладно, Михалыч… Я понял… – но Михалыч не может успокоиться и продолжает, не заботясь, чтобы его слушали.
– У меня тоже повод есть… больше отняли…
– Я знаю, – мрачно возражает стрелявший. – Только тут «больше» не бывает. – Он бросает вниз руку, как стряхивают термометр, на секунду останавливается, тупо смотрит в дверь, оборачивается лицом к присевшему на край табуретки Михалычу, и в свете дежурной лампочки и рефлексов от стены с мишенями видно его сухое лицо с торчащими скулами, туго сжатый рот и горячие глаза… – Я в одну дырку все уложу, чтоб считать не надо было, – обещает он на прощанье и берётся за ручку двери.
Он возвращается в «циркуль» и опять становится у окна… Оба полукружья разведенных временем «циркулей» неожиданно совмещаются, заключив его в центре, где за спиной тотчас оказались у каждого проёма Абашкин, Бродский, Газануллин, Иверов, Кравченко, Лакаускас, Пухов, Широбоков… да! Сашка Иванов… прильнувшие к прицелам. Но как только он оборачивается, оказывается: сквозь каждую пустую, не загораживаемую никем раму за стеклами, расчерченный переплётами, виден двор с заброшенным фонтаном, посредине наивно бесстыжий писающий амур так и замер, давно израсходовав струю, очевидно, навсегда… Над пустым, замусоренным резервуаром… На каменном бруствере круга, подложив книжки под себя, сидят нога на ногу парочками студенты, согнувшись над конспектами и о чём-то споря. Их лиц не видно… Может быть, это те, что остались навсегда у окон «циркулей» и внутри, и снаружи… И он, чудом выживший. Почему? Отказавшийся от всех посулов, привилегий, звёзд, академий, теперь здесь… Столько лет мечтавший угадать, как дышит строчка «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»[1 - А. С. Пушкин «На холмах Грузии».], как она одна вмещает горы, звёзды, море воздуха, синеющего над бесконечной далью, и уже открывающую гениально просторную вечность «Печаль моя светла…», и опять отложивший это надолго… На филфак попасть нечего было и думать: фамилия цеплялась за все створки папок и никак не пролезала в список, словно буквы растопыривали свои завитки и закорючки и не было силы ни укоротить их, ни расширить рамки столбцов…
Ему было всё равно.
Химия – тоже увлекательное дело. Радикалы, валентности, бензольные кольца, крекинги, перегонки, ректификации… и тирование – какого ты цвета? Везде ценз, лакмусовая бумажка, нашедшая себе применение в заанкетированной жизни…
В первый же день он случайно набрёл во дворе института на полустёртую табличку «Тир» и под словом – потерянные строки расписания… Что-то толкнуло его туда, в глубину полуподвала, и рука снова привычно сжала холодную рукоять оружия…
А что он ещё умел делать? С первого дня уральской пулемётной школы в истинные шестнадцать, а не добавленные для военкомата восемнадцать и до порога этого старого особняка – стрелять, ежедневно стрелять и не думать о том, куда летят выпущенные тобой пули. Расплата всё равно придёт – он не формулировал, но точно знал… не от других, не из книг – ниоткуда! Он чувствовал это, но до поры заглушал и топил в повседневной тяготе, и теперь, после вынужденного перерыва, с первого выстрела здесь, у Михалыча, понял, что это его дело, что это он действительно умеет. И ещё он знал, стоя тут, что этот «циркуль» никогда не выпустит его из своей круговой орбиты, никогда не даст отдыха и забвения, что не случайно судьба привела его сюда, что всю жизнь он назначен стоять у окна и выбирать позицию, как было на своей отбитой у немцев орловской земле и в чужом безвинном европейском городишке…
Жаворонок
Во влажный запах прибрежных мостков умещалось теперь всё Мишкино детство. Он сбегал поутру с пригорка по тропинке между деревьями, осторожно ступал шага два по чёрным скользким доскам и смотрел сначала под ноги – как в щели между ними внизу блестела вода, а потом – вдаль, где эти доски начинали расплываться в тумане, поднимающемся от озера. Что-то кричал ему дрозд с берега, воробьи дрались на песке, но он не обращал никакого внимания – стоял, замерев, ждал и впитывал запах: втягивал воздух ноздрями, казалось даже, самой кожей. Туман запутывался в его волосах, майка навлажнялась невидимыми капельками, и холод пробегал по телу, проверяя, куда ещё не пробрался, в каком уголке не застрял, хоть ненадолго, чтобы погреться…
Затем он сразу сбрасывал штаны, рубашку и осторожно ступал по скользкому, чтобы не упасть, доходил до середины мостка, поворачивался лицом к воде и плюхался в неё. Сначала казалось, что дыхание остановилось, а когда голова показывалась над поверхностью, телу становилось тепло-тепло и долго не хотелось вылезать…
Плавать Мишка не умеет, поэтому и не идёт до конца мостков. Там с головкой и дна не достанешь, а тут можно стоять на гладком песке, большим пальцем выкапывать в нём обкатанный камешек и, замерев, слушать: по воде далеко звук летит… Сначала тонкий скрип, будто чайка, когда ссорится, «кри-и, кри-и», потом еле-еле слышно: «пыл-плыл, пыл-плыл» – это плицы вёсел по воде шлёпают; потом уж совсем близко вода по щекам лодки возле носа плюх-плюх-плюх-плюх… ходко идёт. И вот она вдруг разом выросла метрах в пяти, а Мишка раз – и головой под мостки, чуть колени согнул и стой себе сколько хочешь, наблюдай… голова между водой и досками.
Лодка бортом по мостику ширк-ширк, потом днищем по песку – и встала… А Мишка с другой стороны настила вылез и смотрит ей в спину… Тольваныч ноги за борт – и прямо в воду, штанины до колена закатаны… Сперва вёсла вынес, на попа у дуба поставил, за садком вернулся, а улов в ведре… Мишка сложил ладонь лодочкой и плюхнул по воде – очень гулко получается. Обернулся рыбак и смотрит:
– Ты что ж, мил человек, меня ожидал, позволь спросить?
– Не-а… я зарядку делаю… – улыбается Мишка.
– А! Понятно, понятно… Ты бы не застыл, мил человек, потому что подведёшь меня страшенно… Сказать тебе даже не могу как. А если насчёт рыбы – пожалуйста, пойдём посмотрим, какова нынче…
Но Мишка не идёт к Тольванычу, потому что не может смотреть на грустную рыбу в ведре… Однажды он так весь улов-то и выпустил. Оставили ведро рыбаки чужие на берегу на солнце – чего оставили, куда ходили?.. Подошёл он, да как увидел серые рыбьи глаза влажные – точь-в-точь будто они плачут там, ухватился за проволочную ручку и стал волочить по песку ведро – канаву прокопал полукруглым краем днища, а как вода озёрная подбивать стала ведро и тащить стало легче, он его прямо на глубину заволок и притопил… Рыбы-то не поверили сразу такому счастью, толкутся, глупые, в стенки тыкаются, никак понять не могут, откуда свежей струёй потянуло. Тогда Мишка чуть наклонил край ведра – и они бегом! По одной, по одной – безо всякого шума-плеска, только хвостами на прощанье раз-раз – и нету. Потом его чуть не прибили – те, когда вернулись… От матери тоже попало – нажаловались, конечно, мол, хулиганство… А он и спорить не стал… А на всякие хитрости и обманки живое-то вытягивать так, что дышать нечем, – это что? Хулиганство-хулиганство…
– Ты, значит, как уговорились, слышь, Миш, не подведи… А то прошлый раз, когда мать в город тебя возила, так и вечер пустой был… Вот те честное слово…
– Какое? – интересуется Мишка.
– Ну, какое? Моё. Хошь? Мужское! Хошь? Рыбацкое…
– Рыбацкое не хочу… А уже припекает… Тольваныч, а мы как – на мотоцикле опять?
– Чего тарахтеть зря. Тут пройти-то с полкил`ометра… Ты бы обтёрся, а то весь пошёл пупырчиками, как гусак. Голос-то беречь, мил человек, надо, это ведь от Бога дар, не всякому… А хочешь, пойдём чайку с мёдом или ушицы вчерашней с полмисочки?
– Пошли, – соглашается Мишка и идёт рядом, только не с той стороны, где ведро…
Дружба у них странная и случайная вышла. Началась она в прошлом году, когда появились тут, в глухом углу, мать с мальчишкой в начале лета, вроде чужие, пришлые. Остановились у Петелихи… Да тут и домов-то по пальцам пересчитать: деревня с конца двадцатых хиреть стала… Богатая была, усадьба барская на взгорке в дубах стояла. С неё начали. Зачем сожгли? Ну разграбили, растащили – ещё понять можно, а сожгли зачем? Да и барин не злой был… но свели счёты. Потом всех раскулачили: сказали, что гнездо здесь кулаки свили… Всех в кулаки записали… А тут войны одна за другой. Три войны подряд… Мужиков ушедших по пальцам сосчитать, кто вернулся… Двоих потом свои забрали, как после ясно стало, навсегда, за то, что в плену были. За 10 лет никого не осталось. После ещё бригадира Тимонина посадили, Пашу Берегового – сказали, шпионы… На пустые места мало людей потянулось. Бабы, кто выжили, к детям куда-то подались, вдовы, что смогли судьбу устроить, тоже с мест снялись. Он и сам неместный – соседский… Всё это на его веку случилось.
Бобылём жить трудно… С детства у него один глаз слепой был, потому и выжил. На войну не взяли, а жениться не успел… Вот как стало к старости клониться время, он и решился, из соседней деревни перебрался. Городок тут, правда, недалеко, а ехать неудобно: так бы рыбки наловить да продать, а на дорогу потратишься. А здесь продать некому. Наловишь, наловишь – в три горла есть не будешь. Одной соседке отнесёт Прасковья, другой… Сам он стесняется, такой человек…
Как-то вечером сидел он с баяном в избе, наигрывал, вдруг за раскрытым окном обнаружился шорох непонятный. Выглянул он и увидел мальчика. Ты чего, мол, и зазвал его в комнату, стал расспрашивать, мёдом своим угощать майским – так и познакомились. А после чаю взялся он опять за баян, да просто так и сказал: «Ты, подпевай мне… Песни-то какие-нибудь знаешь?» А когда мальчишечка запел, он вдруг напрягся весь и даже играть стал тише, чтоб не заглушать его. Такая пошла у Мишки линия высокая и чистая, что, казалось, стаканы на полке отзванивают. И чего только не знал он! И «Тёмную ночь», и «Летят перелётные птицы», и «Ой, Самара городок», а когда завёл «Ой, да ты, кали-и-и-и-и-ну-ушка, ой, да ты, мали-и-и-ну-ушка…», почувствовал взрослый человек, что слёзы у него сейчас побегут из глаз и смахнуть их не удастся – руки заняты, только что в плечо пиджака упереться на сторону да на другую и промокнуть их… Откуда такой колоколец в горле у мальчишки появиться может – ни натуги, ни трещинки! Как возьмёт звук, он у него горошком в горле катается да в другой звук так плавно перетекает – ни перерыва, ни вздоха… «Мил человек, ты дыши хоть, не забывай», – хотел он сказать, да осёкся: какие тут советы, когда дух захватывает… А мальчишка запыхается, наберёт в себя запасу побольше и опять как заведёт… Только по радио, может, и слыхал он такое душевное пение. Но здесь-то живое, рядом…
– Миш, а Миш, тебе учиться надо!
– А я и пойду в школу осенью, – согласился Мишка.
– Да я не про такую учёбу говорю! Тебе надо петь учиться!
– А что, разве так нельзя? Разве петь учатся?
Другие электронные книги автора Михаил Садовский
Другие аудиокниги автора Михаил Садовский
Бяша




 4.5
4.5