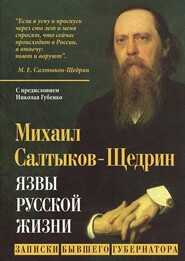По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сказки
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Стало быть, были бунты? – спрашивал Бородавкин.
– Мало ли было бунтов! У нас, сударь, насчет этого такая примета: коли секут – так уж и знаешь, что бунт!
Из дальнейших расспросов оказывалось, что Двоекуров был человек настойчивый и, однажды задумав какое-нибудь предприятие, доводил его до конца. Действовал он всегда большими массами, то есть и усмирял и расточал без остатка; но в то же время понимал, что одного этого средства недостаточно. Поэтому, независимо от мер общих, он в течение нескольких лет сряду непрерывно и неустанно делал сепаратные[72 - Сепара?тный – отдельный, обособленный.] набеги на обывательские дома и усмирял каждого обывателя поодиночке. Вообще во всей истории Глупова поражает один факт: сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого, а завтра, смотришь, опять появятся глуповцы и даже, по обычаю, выступят вперед на сходках так называемые «старики» (должно быть, «из молодых, да ранние»). Каким образом они нарастали – это была тайна, но тайну эту отлично постиг Двоекуров и потому розог не жалел. Как истинный администратор он различал два сорта сечения: сечение без рассмотрения и сечение с рассмотрением, и гордился тем, что первый в ряду градоначальников ввел сечение с рассмотрением, тогда как все предшественники секли как попало и часто даже совсем не тех, кого следовало. И действительно, воздействуя разумно и беспрерывно, он добился результатов самых блестящих. В течение всего его градоначальничества глуповцы не только не садились за стол без горчицы, но даже развели у себя довольно обширные горчичные плантации для удовлетворения требованиям внешней торговли. «И процвела оная весь, яко крин сельный[73 - Крин се?льный (церковно-славянск.) – полевой цветок.], посылая сей горький продукт в отдаленнейшие места державы Российской и получая взамен оного драгоценные металлы и меха».
Но в 1770 году Двоекуров умер, и два градоначальника, последовавшие за ним, не только не поддержали его преобразований, но даже, так сказать, загадили их. И, что всего замечательнее, глуповцы явились неблагодарными. Они нимало не печалились упразднению начальственной цивилизации и даже как будто радовались. Горчицу перестали есть вовсе, а плантации перепахали, засадили капустою и засеяли горохом. Одним словом, произошло то, что всегда случается, когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим и в гражданском смысле незрелым. Даже летописец не без иронии упоминает об этом обстоятельстве: «Много лет выводил он (Двоекуров) хитроумное сие здание, а о том не догадался, что строит на песце». Но летописец, очевидно, и в свою очередь, забывает, что в том-то, собственно, и заключается замысловатость человеческих действий, чтобы сегодня одно здание на «песце» строить, а завтра, когда оно рухнет, зачинать новое здание на том же «песце» воздвигать.
Таким образом оказывалось, что Бородавкин поспел как раз кстати, чтобы спасти погибавшую цивилизацию. Страсть строить на «песце» была доведена в нем почти до исступления. Дни и ночи он все выдумывал, что бы такое выстроить, чтобы оно вдруг, по выстройке, грохнулось и наполнило вселенную пылью и мусором. И так думал и этак, но настоящим манером додуматься все-таки не мог. Наконец, за недостатком оригинальных мыслей, остановился на том, что буквально пошел по стопам своего знаменитого предшественника.
– Руки у меня связаны, – горько жаловался он глуповцам, – а то узнали бы вы у меня, где раки зимуют!
Тут же, кстати, он доведался, что глуповцы, по упущению, совсем отстали от употребления горчицы, а потому на первый раз ограничился тем, что объявил это употребление обязательным; в наказание же за ослушание прибавил еще прованское масло. И в то же время положил в сердце своем: дотоле не класть оружия, доколе в городе останется хоть один недоумевающий.
Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия.
– Что хошь с нами делай! – говорили одни, – хошь – на куски режь; хошь – с кашей ешь, а мы не согласны!
– С нас, брат, не что возьмешь! – говорили другие, – мы не то что прочие, которые телом обросли! нас, брат, и уколупнуть негде!
И упорно стояли при этом на коленах.
Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а глотать не глотает. Точно так же было и с глуповцами: жевали они довольно, а глотать не глотали.
– Сломлю я эту энергию! – говорил Бородавкин и медленно, без торопливости, обдумывал план свой.
А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они не передумали в это время! Думают: станут они теперь есть горчицу, – как бы на будущее время еще какую ни на есть мерзость есть не заставили; не станут – как бы шелепов не пришлось отведать. Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую сторону.
И вдруг затрубила труба и забил барабан. Бородавкин, застегнутый на все пуговицы и полный отваги, выехал на белом коне. За ним следовал пушечный и ружейный снаряд. Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию, а вышло, что он замыслил покорить их самих…
Так начался тот замечательный ряд событий, который описывает летописец под общим наименованием «войн за просвещение».
Первая война «за просвещение» имела, как уже сказано выше, поводом горчицу и началась в 1780 году, то есть почти вслед за прибытием Бородавкина в Глупов.
Тем не менее Бородавкин сразу палить не решился; он был слишком педант, чтобы впасть в столь явную административную ошибку. Он начал действовать постепенно, и с этою целью предварительно созвал глуповцев и стал их заманивать. В речи, сказанной по этому поводу, он довольно подробно развил перед обывателями вопрос о подспорьях вообще и о горчице, как о подспорье, в особенности; но оттого ли, что в словах его было более личной веры в правоту защищаемого дела, нежели действительной убедительности, или оттого, что он, по обычаю своему, не говорил, а кричал, – как бы то ни было, результат его убеждений был таков, что глуповцы испугались и опять всем обществом пали на колени.
«Было чего испугаться глуповцам, – говорит по этому случаю летописец, – стоит перед ними человек роста невеликого, из себя не дородный, слов не говорит, а только криком кричит».
– Поняли, старички? – обратился он к обеспамятевшим обывателям.
Толпа низко кланялась и безмолвствовала. Натурально, это его пуще взорвало.
– Что я… на смерть, что ли, вас веду… ммерррзавцы!
Но едва раздался из уст его новый раскат, как глуповцы стремительно повскакали с коленей и разбежались во все стороны.
– Раззорю! – закричал он им вдогонку.
Весь этот день Бородавкин скорбел. Молча расхаживал он по залам градоначальнического дома и только изредка тихо произносил: «Подлецы!»
Более всего заботила его Стрелецкая слобода, которая и при предшественниках его отличалась самым непреоборимым упорством. Стрельцы довели энергию бездействия почти до утонченности. Они не только не являлись на сходки по приглашениям Бородавкина, но, завидев его приближение, куда-то исчезали, словно сквозь землю проваливались. Некого было убеждать, не у кого было ни о чем спросить. Слышалось, что кто-то где-то дрожит, но где дрожит и как дрожит – разыскать невозможно.
Между тем не могло быть сомнения, что в Стрелецкой слободе заключается источник всего зла. Самые безотрадные слухи доходили до Бородавкина об этом крамольничьем гнезде. Явился проповедник, который перелагал фамилию «Бородавкин» на цифры и доказывал, что ежели выпустить букву р, то выйдет 666, то есть князь тьмы. Ходили по рукам полемические сочинения, в которых объяснялось, что горчица есть былие, выросшее из тела девки-блудницы, прозванной за свое распутство горькою – оттого-де и пошла в мир «горчица». Даже сочинены были стихи, в которых автор добирался до градоначальниковой родительницы и очень неодобрительно отзывался о ее поведении. Внимая этим песнопениям и толкованиям, стрельцы доходили почти до восторженного состояния. Схватившись под руки, они бродили вереницей по улице и, дабы навсегда изгнать из среды своей дух робости, во все горло орали.
Бородавкин чувствовал, как сердце его, капля по капле, переполняется горечью. Он не ел, не пил, а только произносил сквернословия, как бы питая ими свою бодрость. Мысль о горчице казалась до того простою и ясною, что непонимание ее нельзя было истолковать ничем иным, кроме злонамеренности. Сознание это было тем мучительнее, чем больше должен был употреблять Бородавкин усилий, чтобы обуздывать порывы страстной натуры своей.
– Руки у меня связаны! – повторял он, задумчиво покусывая темный ус свой, – а то бы я показал вам, где раки зимуют!
Но он не без основания думал, что натуральный исход всякой коллизии[74 - Колли?зия – столкновение противоположных сил.] есть все-таки сечение, и это сознание подкрепляло его. В ожидании этого исхода он занимался делами и писал втихомолку устав «о нестеснении градоначальников законами». Первый и единственный параграф этого устава гласил так: «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв оный со стола, положи под себя. И тогда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в действии облегчит».
Однако ж покуда устав еще утвержден не был, а следовательно, и от стеснений уклониться было невозможно. Через месяц Бородавкин вновь созвал обывателей и вновь закричал. Но едва успел он произнести два первых слога своего приветствия («об оных, стыда ради, умалчиваю», – оговаривается летописец), как глуповцы опять рассыпались, не успев даже встать на колени. Тогда только Бородавкин решился пустить в ход настоящую цивилизацию.
Ранним утром выступил он в поход и дал делу такой вид, как будто совершает простой военный променад[75 - Промена?д (франц.) – прогулка.]. Утро было ясное, свежее, чуть-чуть морозное (дело происходило в половине сентября). Солнце играло на касках и ружьях солдат; крыши домов и улицы были подернуты легким слоем инея; везде топились печи и из окон каждого дома виднелось веселое пламя.
Хотя главною целью похода была Стрелецкая слобода, но Бородавкин хитрил. Он не пошел ни прямо, ни направо, ни налево, а стал маневрировать. Глуповцы высыпали из домов на улицу и громкими одобрениями поощряли эволюции искусного вождя.
– Слава те, господи! кажется, забыл про горчицу! – говорили они, снимая шапки и набожно крестясь на колокольню.
А Бородавкин все маневрировал да маневрировал и около полдён достиг до слободы Негодницы, где сделал привал. Тут всем участвующим в походе роздали по чарке водки и приказали петь песни, а ввечеру взяли в плен одну мещанскую девицу, отлучившуюся слишком далеко от ворот своего дома.
На другой день, проснувшись рано, стали отыскивать «языка». Делали все это серьезно, не моргнув. Привели какого-то еврея и хотели сначала повесить его, но потом вспомнили, что он совсем не для того требовался, и простили. Еврей, положив руку под стегно[76 - Стегно? – бедро.], свидетельствовал, что надо идти сначала на слободу Навозную, а потом кружить по полю до тех пор, пока не явится урочище, называемое Дунькиным вра?гом. Оттуда же, миновав три повёртки, идти куда глаза глядят.
Так Бородавкин и сделал. Но не успели люди пройти и четверти версты, как почувствовали, что заблудились. Ни земли, ни воды, ни неба – ничего не было видно. Потребовал Бородавкин к себе вероломного жида, чтоб повесить, но его уж и след простыл (впоследствии оказалось, что он бежал в Петербург, где в это время успел получить концессию[77 - Конце?ссия (лат.) – договор на сдачу в эксплуатацию.] на железную дорогу). Плутали таким образом среди белого дня довольно продолжительное время, и сделалось с людьми словно затмение, потому что Навозная слобода стояла въяве у всех на глазах, а никто ее не видал. Наконец спустились на землю действительные сумерки, и кто-то крикнул: грабят! Закричал какой-то солдатик спьяна, а люди замешались и, думая, что идут стрельцы, стали биться. Бились крепко всю ночь, бились не глядя, а как попало. Много тут было раненых, много и убиенных. Только когда уж совсем рассвело, увидели, что бьются свои с своими же и что сцена этого недоразумения происходит у самой околицы Навозной слободы. Положили: убиенных похоронив, заложить на месте битвы монумент, а самый день, в который она происходила, почтить наименованием «слепорода» и в воспоминание об нем учредить ежегодное празднество с свистопляскою.
На третий день сделали привал в слободе Навозной; но тут, наученные опытом, уже потребовали заложников. Затем, переловив обывательских кур, устроили поминки по убиенным. Странно показалось слобожанам это последнее обстоятельство, что вот человек игру играет, а в то же время и кур ловит; но так как Бородавкин секрета своего не разглашал, то подумали, что так следует «по игре», и успокоились.
Но когда Бородавкин после поминовения приказал солдатикам вытоптать прилегавшее к слободе озимое поле, тогда обыватели призадумались.
– Ужли, братцы, всамделе такая игра есть? – говорили они промеж себя, но так тихо, что даже Бородавкин, зорко следивший за направлением умов, и тот ничего не расслышал.
На четвертый день, ни свет ни заря, отправились к Дунькиному вра?гу, боясь опоздать, потому что переход предстоял длинный и утомительный. Долго шли и дорогой беспрестанно спрашивали у заложников: скоро ли? Велико было всеобщее изумление, когда вдруг, посреди чистого поля, аманаты[78 - Амана?ты (арабск.) – заложники.] крикнули: здеся! И было, впрочем, чему изумиться: кругом не было никакого признака поселенья; далеко-далеко раскинулось голое место, и только вдали углублялся глубокий провал, в который, по преданию, скатилась некогда пушкарская девица Дунька, спешившая, в нетрезвом виде, на любовное свидание.
– Где ж слобода? – спрашивал Бородавкин у аманатов.
– Нету здесь слободы! – ответствовали аманаты, – была слобода, везде прежде слободы были, да солдаты все уничтожили!
Но словам этим не поверили и решили: сечь аманатов до тех пор, пока не укажут, где слобода. Но странное дело! Чем больше секли, тем слабее становилась уверенность отыскать желанную слободу! Это было до того неожиданно, что Бородавкин растерзал на себе мундир и, подняв правую руку к небесам, погрозил пальцем и сказал:
– Я вас!
Положение было неловкое; наступила темень, сделалось холодно и сыро, и в поле показались волки. Бородавкин ощутил припадок благоразумия и издал приказ: всю ночь не спать и дрожать.
На пятый день отправились обратно в Навозную слободу и по дороге вытоптали другое озимое поле. Шли целый день и только к вечеру, утомленные и проголодавшиеся, достигли слободы. Но там уже никого не застали. Жители, издали завидев приближающееся войско, разбежались, угнали весь скот и окопались в неприступной позиции. Пришлось брать с бою эту позицию, но так как порох был не настоящий, то, как ни палили, никакого вреда, кроме нестерпимого смрада, сделать не могли.
На шестой день Бородавкин хотел было продолжать бомбардировку, но уже заметил измену. Аманатов ночью выпустили и многих настоящих солдат уволили вчистую и заменили оловянными солдатиками. Когда он стал спрашивать, на каком основании освободили заложников, ему сослались на какой-то регламент, в котором будто бы сказано: «Аманата сечь, а будет который уж высечен, и такого более суток отнюдь не держать, а выпущать домой на излечение». Волею-неволей Бородавкин должен был согласиться, что поступлено правильно, но тут же вспомнил про свой проект «о нестеснении градоначальников законами» и горько заплакал.
– А это что? – спросил он, указывая на оловянных солдатиков.
– Для легости, ваше благородие! – отвечали ему, – провианту не просит, а маршировку и он исполнять может!
– Мало ли было бунтов! У нас, сударь, насчет этого такая примета: коли секут – так уж и знаешь, что бунт!
Из дальнейших расспросов оказывалось, что Двоекуров был человек настойчивый и, однажды задумав какое-нибудь предприятие, доводил его до конца. Действовал он всегда большими массами, то есть и усмирял и расточал без остатка; но в то же время понимал, что одного этого средства недостаточно. Поэтому, независимо от мер общих, он в течение нескольких лет сряду непрерывно и неустанно делал сепаратные[72 - Сепара?тный – отдельный, обособленный.] набеги на обывательские дома и усмирял каждого обывателя поодиночке. Вообще во всей истории Глупова поражает один факт: сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого, а завтра, смотришь, опять появятся глуповцы и даже, по обычаю, выступят вперед на сходках так называемые «старики» (должно быть, «из молодых, да ранние»). Каким образом они нарастали – это была тайна, но тайну эту отлично постиг Двоекуров и потому розог не жалел. Как истинный администратор он различал два сорта сечения: сечение без рассмотрения и сечение с рассмотрением, и гордился тем, что первый в ряду градоначальников ввел сечение с рассмотрением, тогда как все предшественники секли как попало и часто даже совсем не тех, кого следовало. И действительно, воздействуя разумно и беспрерывно, он добился результатов самых блестящих. В течение всего его градоначальничества глуповцы не только не садились за стол без горчицы, но даже развели у себя довольно обширные горчичные плантации для удовлетворения требованиям внешней торговли. «И процвела оная весь, яко крин сельный[73 - Крин се?льный (церковно-славянск.) – полевой цветок.], посылая сей горький продукт в отдаленнейшие места державы Российской и получая взамен оного драгоценные металлы и меха».
Но в 1770 году Двоекуров умер, и два градоначальника, последовавшие за ним, не только не поддержали его преобразований, но даже, так сказать, загадили их. И, что всего замечательнее, глуповцы явились неблагодарными. Они нимало не печалились упразднению начальственной цивилизации и даже как будто радовались. Горчицу перестали есть вовсе, а плантации перепахали, засадили капустою и засеяли горохом. Одним словом, произошло то, что всегда случается, когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим и в гражданском смысле незрелым. Даже летописец не без иронии упоминает об этом обстоятельстве: «Много лет выводил он (Двоекуров) хитроумное сие здание, а о том не догадался, что строит на песце». Но летописец, очевидно, и в свою очередь, забывает, что в том-то, собственно, и заключается замысловатость человеческих действий, чтобы сегодня одно здание на «песце» строить, а завтра, когда оно рухнет, зачинать новое здание на том же «песце» воздвигать.
Таким образом оказывалось, что Бородавкин поспел как раз кстати, чтобы спасти погибавшую цивилизацию. Страсть строить на «песце» была доведена в нем почти до исступления. Дни и ночи он все выдумывал, что бы такое выстроить, чтобы оно вдруг, по выстройке, грохнулось и наполнило вселенную пылью и мусором. И так думал и этак, но настоящим манером додуматься все-таки не мог. Наконец, за недостатком оригинальных мыслей, остановился на том, что буквально пошел по стопам своего знаменитого предшественника.
– Руки у меня связаны, – горько жаловался он глуповцам, – а то узнали бы вы у меня, где раки зимуют!
Тут же, кстати, он доведался, что глуповцы, по упущению, совсем отстали от употребления горчицы, а потому на первый раз ограничился тем, что объявил это употребление обязательным; в наказание же за ослушание прибавил еще прованское масло. И в то же время положил в сердце своем: дотоле не класть оружия, доколе в городе останется хоть один недоумевающий.
Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия.
– Что хошь с нами делай! – говорили одни, – хошь – на куски режь; хошь – с кашей ешь, а мы не согласны!
– С нас, брат, не что возьмешь! – говорили другие, – мы не то что прочие, которые телом обросли! нас, брат, и уколупнуть негде!
И упорно стояли при этом на коленах.
Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а глотать не глотает. Точно так же было и с глуповцами: жевали они довольно, а глотать не глотали.
– Сломлю я эту энергию! – говорил Бородавкин и медленно, без торопливости, обдумывал план свой.
А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они не передумали в это время! Думают: станут они теперь есть горчицу, – как бы на будущее время еще какую ни на есть мерзость есть не заставили; не станут – как бы шелепов не пришлось отведать. Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую сторону.
И вдруг затрубила труба и забил барабан. Бородавкин, застегнутый на все пуговицы и полный отваги, выехал на белом коне. За ним следовал пушечный и ружейный снаряд. Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию, а вышло, что он замыслил покорить их самих…
Так начался тот замечательный ряд событий, который описывает летописец под общим наименованием «войн за просвещение».
Первая война «за просвещение» имела, как уже сказано выше, поводом горчицу и началась в 1780 году, то есть почти вслед за прибытием Бородавкина в Глупов.
Тем не менее Бородавкин сразу палить не решился; он был слишком педант, чтобы впасть в столь явную административную ошибку. Он начал действовать постепенно, и с этою целью предварительно созвал глуповцев и стал их заманивать. В речи, сказанной по этому поводу, он довольно подробно развил перед обывателями вопрос о подспорьях вообще и о горчице, как о подспорье, в особенности; но оттого ли, что в словах его было более личной веры в правоту защищаемого дела, нежели действительной убедительности, или оттого, что он, по обычаю своему, не говорил, а кричал, – как бы то ни было, результат его убеждений был таков, что глуповцы испугались и опять всем обществом пали на колени.
«Было чего испугаться глуповцам, – говорит по этому случаю летописец, – стоит перед ними человек роста невеликого, из себя не дородный, слов не говорит, а только криком кричит».
– Поняли, старички? – обратился он к обеспамятевшим обывателям.
Толпа низко кланялась и безмолвствовала. Натурально, это его пуще взорвало.
– Что я… на смерть, что ли, вас веду… ммерррзавцы!
Но едва раздался из уст его новый раскат, как глуповцы стремительно повскакали с коленей и разбежались во все стороны.
– Раззорю! – закричал он им вдогонку.
Весь этот день Бородавкин скорбел. Молча расхаживал он по залам градоначальнического дома и только изредка тихо произносил: «Подлецы!»
Более всего заботила его Стрелецкая слобода, которая и при предшественниках его отличалась самым непреоборимым упорством. Стрельцы довели энергию бездействия почти до утонченности. Они не только не являлись на сходки по приглашениям Бородавкина, но, завидев его приближение, куда-то исчезали, словно сквозь землю проваливались. Некого было убеждать, не у кого было ни о чем спросить. Слышалось, что кто-то где-то дрожит, но где дрожит и как дрожит – разыскать невозможно.
Между тем не могло быть сомнения, что в Стрелецкой слободе заключается источник всего зла. Самые безотрадные слухи доходили до Бородавкина об этом крамольничьем гнезде. Явился проповедник, который перелагал фамилию «Бородавкин» на цифры и доказывал, что ежели выпустить букву р, то выйдет 666, то есть князь тьмы. Ходили по рукам полемические сочинения, в которых объяснялось, что горчица есть былие, выросшее из тела девки-блудницы, прозванной за свое распутство горькою – оттого-де и пошла в мир «горчица». Даже сочинены были стихи, в которых автор добирался до градоначальниковой родительницы и очень неодобрительно отзывался о ее поведении. Внимая этим песнопениям и толкованиям, стрельцы доходили почти до восторженного состояния. Схватившись под руки, они бродили вереницей по улице и, дабы навсегда изгнать из среды своей дух робости, во все горло орали.
Бородавкин чувствовал, как сердце его, капля по капле, переполняется горечью. Он не ел, не пил, а только произносил сквернословия, как бы питая ими свою бодрость. Мысль о горчице казалась до того простою и ясною, что непонимание ее нельзя было истолковать ничем иным, кроме злонамеренности. Сознание это было тем мучительнее, чем больше должен был употреблять Бородавкин усилий, чтобы обуздывать порывы страстной натуры своей.
– Руки у меня связаны! – повторял он, задумчиво покусывая темный ус свой, – а то бы я показал вам, где раки зимуют!
Но он не без основания думал, что натуральный исход всякой коллизии[74 - Колли?зия – столкновение противоположных сил.] есть все-таки сечение, и это сознание подкрепляло его. В ожидании этого исхода он занимался делами и писал втихомолку устав «о нестеснении градоначальников законами». Первый и единственный параграф этого устава гласил так: «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв оный со стола, положи под себя. И тогда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в действии облегчит».
Однако ж покуда устав еще утвержден не был, а следовательно, и от стеснений уклониться было невозможно. Через месяц Бородавкин вновь созвал обывателей и вновь закричал. Но едва успел он произнести два первых слога своего приветствия («об оных, стыда ради, умалчиваю», – оговаривается летописец), как глуповцы опять рассыпались, не успев даже встать на колени. Тогда только Бородавкин решился пустить в ход настоящую цивилизацию.
Ранним утром выступил он в поход и дал делу такой вид, как будто совершает простой военный променад[75 - Промена?д (франц.) – прогулка.]. Утро было ясное, свежее, чуть-чуть морозное (дело происходило в половине сентября). Солнце играло на касках и ружьях солдат; крыши домов и улицы были подернуты легким слоем инея; везде топились печи и из окон каждого дома виднелось веселое пламя.
Хотя главною целью похода была Стрелецкая слобода, но Бородавкин хитрил. Он не пошел ни прямо, ни направо, ни налево, а стал маневрировать. Глуповцы высыпали из домов на улицу и громкими одобрениями поощряли эволюции искусного вождя.
– Слава те, господи! кажется, забыл про горчицу! – говорили они, снимая шапки и набожно крестясь на колокольню.
А Бородавкин все маневрировал да маневрировал и около полдён достиг до слободы Негодницы, где сделал привал. Тут всем участвующим в походе роздали по чарке водки и приказали петь песни, а ввечеру взяли в плен одну мещанскую девицу, отлучившуюся слишком далеко от ворот своего дома.
На другой день, проснувшись рано, стали отыскивать «языка». Делали все это серьезно, не моргнув. Привели какого-то еврея и хотели сначала повесить его, но потом вспомнили, что он совсем не для того требовался, и простили. Еврей, положив руку под стегно[76 - Стегно? – бедро.], свидетельствовал, что надо идти сначала на слободу Навозную, а потом кружить по полю до тех пор, пока не явится урочище, называемое Дунькиным вра?гом. Оттуда же, миновав три повёртки, идти куда глаза глядят.
Так Бородавкин и сделал. Но не успели люди пройти и четверти версты, как почувствовали, что заблудились. Ни земли, ни воды, ни неба – ничего не было видно. Потребовал Бородавкин к себе вероломного жида, чтоб повесить, но его уж и след простыл (впоследствии оказалось, что он бежал в Петербург, где в это время успел получить концессию[77 - Конце?ссия (лат.) – договор на сдачу в эксплуатацию.] на железную дорогу). Плутали таким образом среди белого дня довольно продолжительное время, и сделалось с людьми словно затмение, потому что Навозная слобода стояла въяве у всех на глазах, а никто ее не видал. Наконец спустились на землю действительные сумерки, и кто-то крикнул: грабят! Закричал какой-то солдатик спьяна, а люди замешались и, думая, что идут стрельцы, стали биться. Бились крепко всю ночь, бились не глядя, а как попало. Много тут было раненых, много и убиенных. Только когда уж совсем рассвело, увидели, что бьются свои с своими же и что сцена этого недоразумения происходит у самой околицы Навозной слободы. Положили: убиенных похоронив, заложить на месте битвы монумент, а самый день, в который она происходила, почтить наименованием «слепорода» и в воспоминание об нем учредить ежегодное празднество с свистопляскою.
На третий день сделали привал в слободе Навозной; но тут, наученные опытом, уже потребовали заложников. Затем, переловив обывательских кур, устроили поминки по убиенным. Странно показалось слобожанам это последнее обстоятельство, что вот человек игру играет, а в то же время и кур ловит; но так как Бородавкин секрета своего не разглашал, то подумали, что так следует «по игре», и успокоились.
Но когда Бородавкин после поминовения приказал солдатикам вытоптать прилегавшее к слободе озимое поле, тогда обыватели призадумались.
– Ужли, братцы, всамделе такая игра есть? – говорили они промеж себя, но так тихо, что даже Бородавкин, зорко следивший за направлением умов, и тот ничего не расслышал.
На четвертый день, ни свет ни заря, отправились к Дунькиному вра?гу, боясь опоздать, потому что переход предстоял длинный и утомительный. Долго шли и дорогой беспрестанно спрашивали у заложников: скоро ли? Велико было всеобщее изумление, когда вдруг, посреди чистого поля, аманаты[78 - Амана?ты (арабск.) – заложники.] крикнули: здеся! И было, впрочем, чему изумиться: кругом не было никакого признака поселенья; далеко-далеко раскинулось голое место, и только вдали углублялся глубокий провал, в который, по преданию, скатилась некогда пушкарская девица Дунька, спешившая, в нетрезвом виде, на любовное свидание.
– Где ж слобода? – спрашивал Бородавкин у аманатов.
– Нету здесь слободы! – ответствовали аманаты, – была слобода, везде прежде слободы были, да солдаты все уничтожили!
Но словам этим не поверили и решили: сечь аманатов до тех пор, пока не укажут, где слобода. Но странное дело! Чем больше секли, тем слабее становилась уверенность отыскать желанную слободу! Это было до того неожиданно, что Бородавкин растерзал на себе мундир и, подняв правую руку к небесам, погрозил пальцем и сказал:
– Я вас!
Положение было неловкое; наступила темень, сделалось холодно и сыро, и в поле показались волки. Бородавкин ощутил припадок благоразумия и издал приказ: всю ночь не спать и дрожать.
На пятый день отправились обратно в Навозную слободу и по дороге вытоптали другое озимое поле. Шли целый день и только к вечеру, утомленные и проголодавшиеся, достигли слободы. Но там уже никого не застали. Жители, издали завидев приближающееся войско, разбежались, угнали весь скот и окопались в неприступной позиции. Пришлось брать с бою эту позицию, но так как порох был не настоящий, то, как ни палили, никакого вреда, кроме нестерпимого смрада, сделать не могли.
На шестой день Бородавкин хотел было продолжать бомбардировку, но уже заметил измену. Аманатов ночью выпустили и многих настоящих солдат уволили вчистую и заменили оловянными солдатиками. Когда он стал спрашивать, на каком основании освободили заложников, ему сослались на какой-то регламент, в котором будто бы сказано: «Аманата сечь, а будет который уж высечен, и такого более суток отнюдь не держать, а выпущать домой на излечение». Волею-неволей Бородавкин должен был согласиться, что поступлено правильно, но тут же вспомнил про свой проект «о нестеснении градоначальников законами» и горько заплакал.
– А это что? – спросил он, указывая на оловянных солдатиков.
– Для легости, ваше благородие! – отвечали ему, – провианту не просит, а маршировку и он исполнять может!