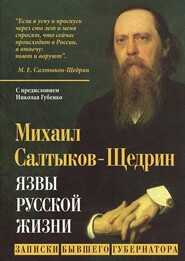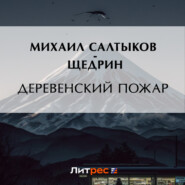По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сказки
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пришлось согласиться и с этим. Заперся Бородавкин в избе и начал держать сам с собою военный совет. Хотелось ему наказать «навозных» за их наглость, но, с другой стороны, припоминалась осада Трои, которая длилась целых десять лет, несмотря на то что в числе осаждавших были Ахиллес и Агамемнон. Не лишения страшили его, не тоска о разлуке с милой супругой печалила, а то, что в течение этих десяти лет может быть замечено его отсутствие из Глупова и притом без особенной для него выгоды. Вспомнился ему по этому поводу урок из истории, слышанный в детстве, и сильно его взволновал. «Несмотря на добродушие Менелая, – говорил учитель истории, – никогда спартанцы не были столь счастливы, как во время осады Трои; ибо хотя многие бумаги оставались неподписанными, но зато многие же спины пребыли невыстеганными, и второе лишение с лихвою вознаградило за первое…»
К довершению всего полились затяжные осенние дожди, угрожая испортить пути сообщения и прекратить подвоз продовольствия.
– И на кой черт я не пошел прямо на стрельцов! – с горечью восклицал Бородавкин, глядя из окна на увеличивавшиеся с минуты на минуту лужи, – в полчаса был бы уж там!
В первый раз он понял, что многоумие в некоторых случаях равносильно недоумию, и результатом этого сознания было решение: бить отбой, а из оловянных солдатиков образовать благонадежный резерв.
На седьмой день выступили чуть свет, но так как ночью дорогу размыло, то люди шли с трудом, а орудия вязли в расступившемся черноземе.
Предстояло атаковать на пути гору Свистуху; скомандовали: в атаку! – передние ряды отважно бросились вперед, но оловянные солдатики за ними не последовали. И так как на лицах их, «ради поспешения», черты были нанесены лишь в виде абриса[79 - Абрис (нем.) – контур, очертание.] и притом в большом беспорядке, то издали казалось, что солдатики иронически улыбаются. А от иронии до крамолы – один шаг.
– Трусы! – процедил сквозь зубы Бородавкин, но явно сказать это затруднился и вынужден был отступить от горы с уроном.
Пошли в обход, но здесь наткнулись на болото, которого никто не подозревал. Посмотрел Бородавкин на геометрический план выгона – везде все пашня, да по мокрому месту покос, да кустарнику мелкого часть, да камню часть, а болота нет, да и полно.
– Нет тут болота! врете вы, подлецы! марш! – скомандовал Бородавкин и встал на кочку, чтоб ближе наблюсти за переправой.
Полезли люди в трясину и сразу потопили всю артиллерию. Однако сами кое-как выкарабкались, выпачкавшись сильно в грязи. Выпачкался и Бородавкин, но ему было уж не до того. Взглянул он на погибшую артиллерию и, увидев, что пушки, до половины погруженные, стоят, обратив жерла к небу и как бы угрожая последнему расстрелянием, начал тужить и скорбеть.
– Сколько лет копил, берег, холил! – роптал он, – что я теперь делать буду! как без пушек буду править!
Войско было окончательно деморализировано[80 - Деморализа?ция – упадок дисциплины, упадок нравов.]. Когда вылезли из трясины, перед глазами опять открылась обширная равнина и опять без всякого признака жилья. По местам валялись человеческие кости и возвышались груды кирпича; все это свидетельствовало, что в свое время здесь существовала довольно сильная и своеобразная цивилизация (впоследствии оказалось, что цивилизацию эту, приняв в нетрезвом виде за бунт, уничтожил бывший градоначальник Урус-Кугуш-Кильдибаев), но с той поры прошло много лет, и ни один градоначальник не позаботился о восстановлении ее. По полю пробегали какие-то странные тени; до слуха долетали таинственные звуки. Происходило что-то волшебное, вроде того, что изображается в 3-м акте «Руслана и Людмилы», когда на сцену вбегает испуганный Фарлаф. Хотя Бородавкин был храбрее Фарлафа, но и он не мог не содрогнуться при мысли, что вот-вот навстречу выйдет злобная Наина…
Только на осьмой день, около полдён, измученная команда увидела стрелецкие высоты и радостно затрубила в рога. Бородавкин вспомнил, что великий князь Святослав Игоревич, прежде нежели побеждать врагов, всегда посылал сказать: «Иду на вы!» – и, руководствуясь этим примером, командировал своего ординарца к стрельцам с таким же приветствием.
На другой день, едва позолотило солнце верхи соломенных крыш, как уже войско, предводительствуемое Бородавкиным, вступало в слободу. Но там никого не было, кроме заштатного попа, который в эту самую минуту рассчитывал, не выгоднее ли ему перейти в раскол. Поп был древний и скорее способный поселять уныние, нежели вливать в душу храбрость.
– Где жители? – спрашивал Бородавкин, сверкая на попа глазами.
– Сейчас тут были! – шамкал губами поп.
– Как сейчас? куда же они бежали?
– Куда бежать? зачем от своих домов бежать? чай, здесь где-нибудь от тебя схоронились!
Бородавкин стоял на одном месте и рыл ногами землю. Была минута, когда он начинал верить, что энергия бездействия должна восторжествовать.
– Надо было зимой поход объявить! – раскаивался он в сердце своем, – тогда бы они от меня не спрятались.
– Эй! кто тут! выходи! – крикнул он таким голосом, что оловянные солдатики – и те дрогнули.
Но слобода безмолвствовала, словно вымерла. Вырывались откуда-то вздохи, но таинственность, с которою они выходили из невидимых организмов, еще более раздражала огорченного градоначальника.
– Где они, бестии, вздыхают? – неистовствовал он, безнадежно озираясь по сторонам и, видимо, теряя всякую сообразительность, – сыскать первую бестию, которая тут вздыхает, и привести ко мне!
Бросились искать, но как ни шарили, а никого не нашли. Сам Бородавкин ходил по улице, заглядывая во все щели, – нет никого! Это до того его озадачило, что самые несообразные мысли вдруг целым потоком хлынули в его голову.
«Ежели я теперича их огнем раззорю… нет, лучше голодом поморю!..» – думал он, переходя от одной несообразности к другой.
И вдруг он остановился как пораженный перед оловянными солдатиками.
С ними происходило что-то совсем необыкновенное. Постепенно, в глазах у всех солдатики начали наливаться кровью. Глаза их, доселе неподвижные, вдруг стали вращаться и выражать гнев; усы, нарисованные вкривь и вкось, встали на свои места и начали шевелиться; губы, представлявшие тонкую розовую черту, которая от бывших дождей почти уже смылась, оттопырились и изъявляли намерение нечто произнести. Появились ноздри, о которых прежде и в помине не было, и начали раздуваться и свидетельствовать о нетерпении.
– Что скажете, служивые? – спросил Бородавкин.
– Избы… избы… ломать! – невнятно, но как-то мрачно произнесли оловянные солдатики.
Средство было отыскано.
Начали с крайней избы. С гиком бросились «оловянные» на крышу и мгновенно остервенились. Полетели вниз вязки соломы, жерди, деревянные спицы. Взвились вверх целые облака пыли.
– Тише! тише! – кричал Бородавкин, вдруг заслышав около себя какой-то стон.
Стонала вся слобода. Это был неясный, но сплошной гул, в котором нельзя было различить ни одного отдельного звука, но который всей своей массой представлял едва сдерживаемую боль сердца.
– Кто тут? выходи! – опять крикнул Бородавкин во всю мочь.
Слобода смолкла, но никто не выходил. «Чаяли стрельцы, – говорит летописец, – что новое сие изобретение (то есть усмирение посредством ломки домов), подобно всем прочим, одно мечтание представляет, но недолго пришлось им в сей сладкой надежде себя утешать».
– Катай! – произнес Бородавкин твердо.
Раздался треск и грохот; бревна одно за другим отделялись от сруба, и, по мере того как они падали на землю, стон возобновлялся и возрастал. Через несколько минут крайней избы как не бывало, и «оловянные», ожесточившись, уже брали приступом вторую. Но когда спрятавшиеся стрельцы после короткого перерыва вновь услышали удары топора, продолжавшего свое разрушительное дело, то сердца их дрогнули. Выползли они все вдруг, и старые и малые, и мужеск и женск пол, и, воздев руки к небу, пали среди площади на колени. Бородавкин сначала было разбежался, но потом вспомнил слова инструкции: «При усмирениях не столько стараться об истреблении, сколько о вразумлении», – и притих. Он понял, что час триумфа уже наступил и что триумф едва ли не будет полнее, если в результате не окажется ни расквашенных носов, ни свороченных на сторону скул.
– Принимаете ли горчицу? – внятно спросил он, стараясь по возможности устранить из голоса угрожающие ноты.
Толпа безмолвно поклонилась до земли.
– Принимаете ли, спрашиваю я вас? – повторил он, начиная уже закипать.
– Принимаем! принимаем! – тихо гудела, словно шипела, толпа.
– Хорошо. Теперь сказывайте мне, кто промеж вас память любезнейшей моей родительницы в стихах оскорбил?
Стрельцы позамялись: неладно им показалось выдавать того, кто в горькие минуты жизни был их утешителем; однако, после минутного колебания, решились исполнить и это требование начальства.
– Выходи, Федька! небось! выходи! – раздавалось в толпе.
Вышел вперед белокурый малый и стал перед градоначальником. Губы его подергивались, словно хотели сложиться в улыбку, но лицо было бледно, как полотно, и зубы тряслись.
– Так это ты? – захохотал Бородавкин и, немного отступя, словно желая осмотреть виноватого во всех подробностях, повторил, – так это ты?
Очевидно, в Бородавкине происходила борьба. Он обдумывал, мазнуть ли ему Федьку по лицу или наказать иным образом. Наконец придумано было наказание, так сказать, смешанное.
– Слушай! – сказал он, слегка поправив Федькину челюсть, – так как ты память любезнейшей моей родительницы обесславил, то ты же впредь каждый день должен сию драгоценную мне память в стихах прославлять и стихи те ко мне приносить!
С этим словом он приказал дать отбой.
Бунт кончился; невежество было подавлено, и на место его водворено просвещение. Через полчаса Бородавкин, обремененный добычей, въезжал с триумфом в город, влача за собой множество пленников и заложников. И так как в числе их оказались некоторые военачальники и другие первых трех классов особы, то он приказал обращаться с ними ласково (выколов, однако, для верности, глаза), а прочих сослать на каторгу.
К довершению всего полились затяжные осенние дожди, угрожая испортить пути сообщения и прекратить подвоз продовольствия.
– И на кой черт я не пошел прямо на стрельцов! – с горечью восклицал Бородавкин, глядя из окна на увеличивавшиеся с минуты на минуту лужи, – в полчаса был бы уж там!
В первый раз он понял, что многоумие в некоторых случаях равносильно недоумию, и результатом этого сознания было решение: бить отбой, а из оловянных солдатиков образовать благонадежный резерв.
На седьмой день выступили чуть свет, но так как ночью дорогу размыло, то люди шли с трудом, а орудия вязли в расступившемся черноземе.
Предстояло атаковать на пути гору Свистуху; скомандовали: в атаку! – передние ряды отважно бросились вперед, но оловянные солдатики за ними не последовали. И так как на лицах их, «ради поспешения», черты были нанесены лишь в виде абриса[79 - Абрис (нем.) – контур, очертание.] и притом в большом беспорядке, то издали казалось, что солдатики иронически улыбаются. А от иронии до крамолы – один шаг.
– Трусы! – процедил сквозь зубы Бородавкин, но явно сказать это затруднился и вынужден был отступить от горы с уроном.
Пошли в обход, но здесь наткнулись на болото, которого никто не подозревал. Посмотрел Бородавкин на геометрический план выгона – везде все пашня, да по мокрому месту покос, да кустарнику мелкого часть, да камню часть, а болота нет, да и полно.
– Нет тут болота! врете вы, подлецы! марш! – скомандовал Бородавкин и встал на кочку, чтоб ближе наблюсти за переправой.
Полезли люди в трясину и сразу потопили всю артиллерию. Однако сами кое-как выкарабкались, выпачкавшись сильно в грязи. Выпачкался и Бородавкин, но ему было уж не до того. Взглянул он на погибшую артиллерию и, увидев, что пушки, до половины погруженные, стоят, обратив жерла к небу и как бы угрожая последнему расстрелянием, начал тужить и скорбеть.
– Сколько лет копил, берег, холил! – роптал он, – что я теперь делать буду! как без пушек буду править!
Войско было окончательно деморализировано[80 - Деморализа?ция – упадок дисциплины, упадок нравов.]. Когда вылезли из трясины, перед глазами опять открылась обширная равнина и опять без всякого признака жилья. По местам валялись человеческие кости и возвышались груды кирпича; все это свидетельствовало, что в свое время здесь существовала довольно сильная и своеобразная цивилизация (впоследствии оказалось, что цивилизацию эту, приняв в нетрезвом виде за бунт, уничтожил бывший градоначальник Урус-Кугуш-Кильдибаев), но с той поры прошло много лет, и ни один градоначальник не позаботился о восстановлении ее. По полю пробегали какие-то странные тени; до слуха долетали таинственные звуки. Происходило что-то волшебное, вроде того, что изображается в 3-м акте «Руслана и Людмилы», когда на сцену вбегает испуганный Фарлаф. Хотя Бородавкин был храбрее Фарлафа, но и он не мог не содрогнуться при мысли, что вот-вот навстречу выйдет злобная Наина…
Только на осьмой день, около полдён, измученная команда увидела стрелецкие высоты и радостно затрубила в рога. Бородавкин вспомнил, что великий князь Святослав Игоревич, прежде нежели побеждать врагов, всегда посылал сказать: «Иду на вы!» – и, руководствуясь этим примером, командировал своего ординарца к стрельцам с таким же приветствием.
На другой день, едва позолотило солнце верхи соломенных крыш, как уже войско, предводительствуемое Бородавкиным, вступало в слободу. Но там никого не было, кроме заштатного попа, который в эту самую минуту рассчитывал, не выгоднее ли ему перейти в раскол. Поп был древний и скорее способный поселять уныние, нежели вливать в душу храбрость.
– Где жители? – спрашивал Бородавкин, сверкая на попа глазами.
– Сейчас тут были! – шамкал губами поп.
– Как сейчас? куда же они бежали?
– Куда бежать? зачем от своих домов бежать? чай, здесь где-нибудь от тебя схоронились!
Бородавкин стоял на одном месте и рыл ногами землю. Была минута, когда он начинал верить, что энергия бездействия должна восторжествовать.
– Надо было зимой поход объявить! – раскаивался он в сердце своем, – тогда бы они от меня не спрятались.
– Эй! кто тут! выходи! – крикнул он таким голосом, что оловянные солдатики – и те дрогнули.
Но слобода безмолвствовала, словно вымерла. Вырывались откуда-то вздохи, но таинственность, с которою они выходили из невидимых организмов, еще более раздражала огорченного градоначальника.
– Где они, бестии, вздыхают? – неистовствовал он, безнадежно озираясь по сторонам и, видимо, теряя всякую сообразительность, – сыскать первую бестию, которая тут вздыхает, и привести ко мне!
Бросились искать, но как ни шарили, а никого не нашли. Сам Бородавкин ходил по улице, заглядывая во все щели, – нет никого! Это до того его озадачило, что самые несообразные мысли вдруг целым потоком хлынули в его голову.
«Ежели я теперича их огнем раззорю… нет, лучше голодом поморю!..» – думал он, переходя от одной несообразности к другой.
И вдруг он остановился как пораженный перед оловянными солдатиками.
С ними происходило что-то совсем необыкновенное. Постепенно, в глазах у всех солдатики начали наливаться кровью. Глаза их, доселе неподвижные, вдруг стали вращаться и выражать гнев; усы, нарисованные вкривь и вкось, встали на свои места и начали шевелиться; губы, представлявшие тонкую розовую черту, которая от бывших дождей почти уже смылась, оттопырились и изъявляли намерение нечто произнести. Появились ноздри, о которых прежде и в помине не было, и начали раздуваться и свидетельствовать о нетерпении.
– Что скажете, служивые? – спросил Бородавкин.
– Избы… избы… ломать! – невнятно, но как-то мрачно произнесли оловянные солдатики.
Средство было отыскано.
Начали с крайней избы. С гиком бросились «оловянные» на крышу и мгновенно остервенились. Полетели вниз вязки соломы, жерди, деревянные спицы. Взвились вверх целые облака пыли.
– Тише! тише! – кричал Бородавкин, вдруг заслышав около себя какой-то стон.
Стонала вся слобода. Это был неясный, но сплошной гул, в котором нельзя было различить ни одного отдельного звука, но который всей своей массой представлял едва сдерживаемую боль сердца.
– Кто тут? выходи! – опять крикнул Бородавкин во всю мочь.
Слобода смолкла, но никто не выходил. «Чаяли стрельцы, – говорит летописец, – что новое сие изобретение (то есть усмирение посредством ломки домов), подобно всем прочим, одно мечтание представляет, но недолго пришлось им в сей сладкой надежде себя утешать».
– Катай! – произнес Бородавкин твердо.
Раздался треск и грохот; бревна одно за другим отделялись от сруба, и, по мере того как они падали на землю, стон возобновлялся и возрастал. Через несколько минут крайней избы как не бывало, и «оловянные», ожесточившись, уже брали приступом вторую. Но когда спрятавшиеся стрельцы после короткого перерыва вновь услышали удары топора, продолжавшего свое разрушительное дело, то сердца их дрогнули. Выползли они все вдруг, и старые и малые, и мужеск и женск пол, и, воздев руки к небу, пали среди площади на колени. Бородавкин сначала было разбежался, но потом вспомнил слова инструкции: «При усмирениях не столько стараться об истреблении, сколько о вразумлении», – и притих. Он понял, что час триумфа уже наступил и что триумф едва ли не будет полнее, если в результате не окажется ни расквашенных носов, ни свороченных на сторону скул.
– Принимаете ли горчицу? – внятно спросил он, стараясь по возможности устранить из голоса угрожающие ноты.
Толпа безмолвно поклонилась до земли.
– Принимаете ли, спрашиваю я вас? – повторил он, начиная уже закипать.
– Принимаем! принимаем! – тихо гудела, словно шипела, толпа.
– Хорошо. Теперь сказывайте мне, кто промеж вас память любезнейшей моей родительницы в стихах оскорбил?
Стрельцы позамялись: неладно им показалось выдавать того, кто в горькие минуты жизни был их утешителем; однако, после минутного колебания, решились исполнить и это требование начальства.
– Выходи, Федька! небось! выходи! – раздавалось в толпе.
Вышел вперед белокурый малый и стал перед градоначальником. Губы его подергивались, словно хотели сложиться в улыбку, но лицо было бледно, как полотно, и зубы тряслись.
– Так это ты? – захохотал Бородавкин и, немного отступя, словно желая осмотреть виноватого во всех подробностях, повторил, – так это ты?
Очевидно, в Бородавкине происходила борьба. Он обдумывал, мазнуть ли ему Федьку по лицу или наказать иным образом. Наконец придумано было наказание, так сказать, смешанное.
– Слушай! – сказал он, слегка поправив Федькину челюсть, – так как ты память любезнейшей моей родительницы обесславил, то ты же впредь каждый день должен сию драгоценную мне память в стихах прославлять и стихи те ко мне приносить!
С этим словом он приказал дать отбой.
Бунт кончился; невежество было подавлено, и на место его водворено просвещение. Через полчаса Бородавкин, обремененный добычей, въезжал с триумфом в город, влача за собой множество пленников и заложников. И так как в числе их оказались некоторые военачальники и другие первых трех классов особы, то он приказал обращаться с ними ласково (выколов, однако, для верности, глаза), а прочих сослать на каторгу.