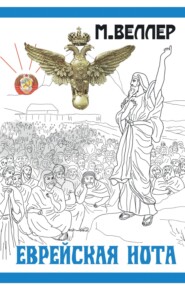По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Друзья и звезды
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я прекрасно помню историю с «Гадкими лебедями». «Гадкие лебеди», как вы, наверное, помните, были опубликованы без нашего разрешения антисоветским издательством «Посев».
М.В. Да это был главный литературный скандал после высылки Солженицына. Газеты негодовали. После этого все семидесятые Стругацких печатал только журнал «Знание – сила».
Б.С. Был жуткий скандал по этому поводу. Начальство нас вызывало на ковер. Мы писали какие-то объяснения отвратительные. Потом все затихло. Конечно, ни о какой публикации в России, в СССР быть не могло.
Но. Спустя два-три-четыре года, я не помню, сколько лет спустя, вдруг возникла ослепительная идея опубликовать «Гадкие лебеди» законно иностранным издательством (ни в каком ни в антисоветском, в нормальном каком-нибудь спокойном издательстве), получить за это денежки – большие денежки, обращаю ваше внимание! Потому что особо большие деньги предлагались за произведения в СССР не опубликованные, а те, что обычно переводились, были, как правило, опубликованные, и платили за них, соответственно, в два-три раза меньше. Что ВААПу, конечно, не нравилось. А тут возникла возможность – впервые! – не опубликованное в СССР произведение вновь и легально опубликовать на Западе и получить большие деньги! Все довольны, план выполняется!
Фига с два! Примерно год длились по этому поводу переговоры, и кончились они абсолютно ничем. Как это обычно бывает: пришел новый начальник ВААПа, не помню уже, кто там именно был, и приказал: уберите от меня это, я не собираюсь на эту тему даже разговаривать. И весь спор был окончен.
Так что говорить о том, что ВААП использовал имя Стругацких для получения каких-то там дополнительных хозяйственных выгод, – это смешно. Не было никаких хозяйственных выгод, когда речь заходила об идеологии. Этого не было никогда. Героями таких поступков не могли быть ни Стругацкие, ни даже Константин Симонов, скажем. (Какие-то истории я слышал насчет публикаций на Западе Симонова.) Никто не мог замахнуться. Идеология превыше всего! Это была установка однозначная и неотменимая.
М.В. И все-таки интересно же, особенности минувшей эпохи, – так какую же долю от гонораров зарубежных издательств ВААП оставлял себе, а какую все-таки отдавал вам?
Б.С. Это вопрос, к сожалению, не такой простой, как может показаться. Потому что мы делали несколько запросов в ВААП. Мол, что там у нас и у вас. И получали все время разные ответы. Значит, колебалось всё это в пределах от семидесяти до девяноста процентов. То есть от семидесяти до девяноста процентов гонорара забирал себе ВААП, государство. А оставшиеся десять – тридцать процентов выделялись нам в виде так называемых чеков. По-видимому, это совпадает с действительностью, похоже на действительность.
Уже значительно позже, почти в новые времена, нам приходилось говорить на эту тему с Эдиком Успенским, который очень много издавался на Западе. И он подтверждал эту цифру. Да, процентов семьдесят – восемьдесят – девяносто они у него забирали. Так что это, вероятно, правда.
М.В. Какие у вас в сумме были тиражи в Советском Союзе? А затем в России? Считали ведь, наверное, ваши тиражи в Советском Союзе, а затем в России?
Б.С. Да честно говоря, не считал.
М.В. Так и запишем: без счета. А предположения строили?
Б.С. И предположений ведь не строил. Это какие-то миллионы, наверное.
М.В. Есть подозрение, что не «какие-то»! Это огромные миллионы. Ведь в советские времена меньше чем стотысячником вас не издавали.
Б.С. Нет… ну, наверное, миллионов двадцать вышло за все время. Причем в основном при Советской власти, между прочим. Потому что в новые времена издавать стали обильно и с огромным удовольствием все, кому не лень. Тиражи-то стали маленькие. Тиражи упали в десять раз. И хотя число названий книг выросло в десять раз, в результате получилось баш на баш.
Не в тиражах счастье. Читают – и слава Богу.
Сергей Юрский
Театр и доказательство небессмысленности
Михаил Веллер. Пятьдесят лет я хотел задать вам этот вопрос! Пятьдесят лет! Для меня театр начался в четырнадцать, когда я приехал в Ленинград на школьные каникулы, и мне достали билет в БДТ на «Горе от ума». В гробу я видал это школьное программное горе – но театр! в Ленинграде! в жизни не был. А попал я на пятую премьеру, как узнал из разговоров в фойе.
Потрясение произошло сразу, как только погас свет. Занавес открылся – а за ним оказался второй занавес, зеленый, как бильярдный стол или суконная штора, и в правом верхнем углу – белый прямоугольник, а по нему рукописным почерком: «Черт догадал меня родиться в России с умом и талантом» Пушкин».
Это ошарашивало. Сбивало с толку. Мы такого не проходили.
Занавес шел вверх, и к рампе выходил высокий прямой старик в камзоле и с жезлом. В полной тишине он трижды бил жезлом в пол и голосом царского указа возвещал:
«Сегодня, шестого дня января тысяча девятьсот шестьдесят второго года от Рождества Христова, на сцене Государственного Большого драматического театра имени Горького будет в пятый раз дано представление – комедия господина Грибоедова «Горе от ума»!»
Отступал шаг назад, поворачивался в три четверти и продолжал:
«Позвольте представить вам действующих лиц».
И за кисейной занавесью разгорался гнойный зеленовато-желтый свет, и на движущемся круге плыли фигуры, застывшие в гротескных и уродливых позах, как восковой паноптикум.
И вот это потрясение, это ошарашивание, эта отодвинутость спектакля от здесь и сейчас не проходила до финала. И она смешивалась с оказывающейся сегодняшнестью, злободневностью происходящего, и это был вообще конец всему. Вот с этого спектакля я люблю Грибоедова всю жизнь.
Но я разболтался. Это все преамбула. Просто не было сил не вспомнить. Чацкий – Сергей Юрский. Софья – Татьяна Доронина. Молчалин – Кирилл Лавров. Лавров вообще играл всех положительных и был награжден всем. А Юрский играл кого ни попадя, и амплуа сказывалось на судьбе актера (слово «имидж» тогда не употребляли).
И вот финальная сцена перед последним монологом Чацкого. Все всем открылось, точки расставлены, свет гаснет.
И вот в этом мраке на сцене – отчетливо кажется, что Софья и Чацкий отчаянно бросаются друг другу на шею! Любя, разрываясь от горя!..
И вот полвека спустя я с замиранием спрашиваю: Сергей Юрьевич, дорогой, откройте: это вправду было? Или казалось?
Сергей Юрский. Во всяком случае – что-то подобное должно было быть… Да, это была надежда!.. Мы ее не то чтобы вслух обсуждали, проговаривали, нет. Но она – предполагалась. Здесь у Софьи открывались глаза на Молчалина. Это благодаря Чацкому она увидела свое окружение. И они бы что-то могли бы? Но – БЫ!.. И Чацкий, сломленный, покидал этот московский мир навсегда…
Конкретных объятий никаких не было. Я делал это внутренним движением, внутренним усилием, – которое должно же было как-то выражаться в движении внешнем. А это движение, если вы его угадали из зала, ощутили, – это, собственно, то, что и делает театр искусством пока еще не умершим. Мне кажется.
Если спектакль идет правильно, если возникли правильные взаимоотношения со зрительным залом – то человека на сцене можно видеть насквозь. Он может заявлять о себе самые хорошие вещи, окружающие могут считать его ангелом – а он насквозь вам виден как лгун.
И если мужчина делает порыв к женщине – а на самом деле остается стоять на месте, но порыв виден, ясен! – что ж может быть еще лучше?..
М.В. Простите за вольность, но для себя я сравниваю Товстоногова как режиссера с сиамской кошкой среди кошек. В сущности, она точно такая же, как другие, – ну, просто немного живее, немного веселее, немного игривее, немного общительнее и разговорчивее. И после нее с другими уже неинтересно. И вот мы тогда, обычные зрители, не знали же, что Товстоногов гений, никто его не называл великим. Нам никто такого не говорил, в газетах не писали. Но что-то такое чувствовалось!..
В шестьдесят шестом году я поступил в Ленинградский университет – и стал ходить в БДТ. По первым-одиннадцатым-двадцать первым числам занимал очередь в шесть утра и брал билеты за две декады вперед, как тогда водилось. Очередь обменивалась мнениями и впечатлениями. Поведывали сплетни, тайны и планы.
По тогдашней терминологии: была «сюжетная» публика, которой надо было попроще; были театральные старушки из «бывших», ходившие на дешевые билеты по три раза на спектакль. И – была своя, негласная табель о рангах. С гласной все совершенно ясно: там были народные СССР и РСФСР, заслуженные, Герои Труда. А была негласная табель… и очень значимая, общепринятая: шестидесятые годы ведь…
Вот в этой негласной табели о рангах Сергей Юрский был ленинградским актером номер раз. И это хотя в Ленинграде не было принято ходить на актеров, это в Москве ходили, в Ленинграде ходили на спектакли. Мощный был театр.
С.Ю. Потому и театр был мощный, что ходили на спектакли. Иная система ценностей, интересов, возможностей у массы публики.
М.В. Да по многим причинам, наверное, театр был мощный. После Чацкого Юрского я ходил на Чацкого Рецептера. Весь город ходил сравнивал, обсуждал. Два разных решения роли. Ваш был сильнее, мужественнее, ироничнее…
О другой роли. Вы играли Гвиччарди в «Четвертом». «Четвертый» был выставлен потрясающе.
С.Ю. Эта пьеса Константина Симонова на западную тему, как бы о западных людях, тогда гремела, звучала остро.
М.В. Нам изображали врагов-американцев – а ценности у них те же, система совести та же, что здесь. И вот в сцене серьезного разговора, размолвки Гвиччарди со старым фронтовым другом по Сопротивлению, оба сидят молча, он прикуривает разом две сигареты, одну вынимает изо рта и протягивает другу.
С.Ю. Вы это помните!
М.В. Этот жест я видел впервые. Потом сам иногда так делал… Вы это подсмотрели где или поставили так, сами придумали?
С.Ю. Да нет, сам придумал. Что-то в этом было правильное, по настроению, по отношениям этих двоих. По ситуации верно. А через много лет – увидел, убедился по американским фильмам, что жест это существующий вообще, принятый!.. Значит, я не Америку открыл, а вот открылось, что в Америке это есть, может быть, или должно быть: висело в воздухе. Это жест дружеский, близкий, среди своих, когда мало огня, спички кончаются, когда лучше не светиться, вот одно прикуривание на двоих.
М.В. Гениальность – это когда ты делаешь что-то неизвестно почему, а потом оно оказывается правдой. Но не могу оторваться от репертуара…
Пьеса Штейна «Океан» в сущности была советско-военно-патриотическая. Секретарская литература. Военно-морской флот в суровые мирные будни. Чтоб из этого главпуровского назидания сделать спектакль, на который в Ленинграде будут ломиться знатоки, – это надо было уметь!..
Роль там у вас была самая выигрышная. М-да, необходимо заметить, что практически все ваши театральные роли были самыми выигрышными в репертуаре.