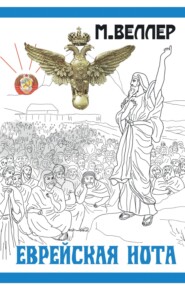По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Друзья и звезды
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Е.Е. Да эти слова для меня просто как выдышать было.
Выступали против меня братья-писатели, не хочу называть их, несть им числа, и они всюду говорили: «Евтушенко читает для каких-то там…» Даже Шолохов писал глупые вещи. Он же меня принимал у себя, обещал защитить «Бабий Яр», между прочим, потому что его именем спекулировали, когда били меня за «Бабий Яр».
Я говорил: «Вы придите ко мне, не ко мне – к нашему поколению, мы вас примем прекрасно. Послушайте, как читают стихи».
Потом я поехал на Кубу. Рассказываю там с восторгом «Дону Алехандро», нашему замечательному послу, как Шолохов обещал защитить мой «Бабий Яр». А через несколько дней он мне звонит: «Слушай, тут «Правда» пришла с последней почтой. Приходи. Как я всё и предвидел».
И вдруг я вижу речь Шолохова, который не побывал ни разу ни на одном вечере поэзии: о том, что сейчас проходят в Москве в сомнительных аудиториях этакие поэтические вечера, собирающие толпы истерических кликуш и пижонов.
М.В. Он это все-таки написал сам, или его заставили подписать?
Е.Е. А какая мне разница? Он произнес об этом огромную речь. То ли это Съезд Партии был, то ли что, уже не помню.
И они показывают мне в посольстве эту шолоховскую речь на каком-то конгрессе. Я говорю: «Но он такой искренний был, когда говорил мне, что поддерживает!» «А почему ты считаешь, – ответил мне тогда Дон Алехандро (это кличка тогдашнего посла на Кубе Алексеева), – что у него только одна искренность? У него есть разные искренности, как у многих сейчас, к сожалению. Да, он замечательный писатель, он написал великую книгу. Но у него имеется целая панелька искренностей, целый пункт искренностей. Какую он хочет искренность, такую и включает. И дома с тобой он тоже был искренен…»
Вот что сказал мне тогда посол СССР на Кубе Алексеев…
М.В. Контрастная многорегистровая искренность… Вы упомянули свое плавание на зверобойной шхуне. С тех пор, как я школьником прочитал впервые «Катер связи», где были многие стихи того периода, у меня сидит в голове:
Нерпы, нерпы, мы вас любим,
но дубинками вас лупим,
ибо требует страна,
ибо, нерпы, вы – валюта,
а валюта нам нужна.
Чтоб какая-то там дама,
Сплошь одно ребро Адама,
В мех закутала мослы,
Кто-то с важностью на морде
вновь вбивает нам по Морзе
Указания в мозги.
Вы долго на этой шхуне были в рейсе?
Е.Е. Ну, конечно, с Юрой Казаковым мы были там месяца два-три.
У меня был там один случай, я потом написал по этому поводу стихотворение «Можно всё еще спасти» – о Робертино Лоретти. У меня случилась там единственная моя, наверное, жертва. Они били маленьких китов – белух. И нерп тоже били заодно, но в основном белух. Когда мы вышли первый раз, я вдруг увидел, что они вынесли на палубу простую виктролу с заводной ручкой (ну, это типа патефона) и поставили пластинку Робертино Лоретти – «Аве Мария». «Для чего?» – спрашиваю. А они говорят: «Они, между прочим, любят Робертино Лоретти, тут все зверобои знают».
И действительно, вынырнула из моря такая просто живая человеческая голова, физиономия. И капитан закричал мне: «Стреляй!» – когда высунулась эта мордочка. Ну, я, конечно, взял винтовку и выстрелил. И это до сих пор меня убийственно мучит. Эта мордочка была такая любопытная, с этими усиками, и она слушала эту музыку, – и вдруг вот это, что было чем-то живым, слушающим музыку по-человечески, я бы сказал, – превратилось в мертвое, всплыло внутри багрового расплывшегося пятна.
И я говорю: «Почему же мы ее не берем, куда, чего уходим отсюда?» А капитан отвечает: «А первую добычу мы не берем». Потом я ему открыл, что у меня ужасное состояние было, и народ решил – нет, тебе не годится эта работа, мы тебя на камбуз переводим. Так что я там проплавал, слава Богу, не участвуя в этих убийствах.
Я все-таки охотился с детства, и первого медведя убил, когда мне было, наверное, лет 12. Но это от голода было во время войны. С бабушками я ходил на охоту. А вообще, после того, как я был на реке Вилюй с Леней Шинкарёвым, моим другом, замечательным корреспондентом… Двое гусей летели над нами. Я очень хорошо стреляю с детства. И я сбил одного влет. Он упал прямо в нашу лодку – мне на колени. И вдруг повернул голову и посмотрел на меня – глазами в глаза, – прежде чем их закрыть. После этого я бросил охотиться навсегда.
…Вы задали вопрос очень важный – как у меня сложилось это одностишие: «Поэт в России – больше, чем поэт». Братья-писатели многие, которые на меня нападали и называли «западником» и прочее, – да ни один из них не написал столько стихов о России, сколько я. И песен, которые поются о России. Правда, вот это удивительно. А они мне все время талдычили, корили: «Вот ему бы поехать по России, поесть черного хлеба» и т.д. Я столько его ел, этого черного хлеба!.. Хотя он мне никогда не надоедает. Я по всем медвежьим углам выступал и читал.
Вот мы прошли, например, на «Микешине» всю Лену – всю Лену! – 4,5 тысячи километров. Так там нет ни одного населенного пункта, где бы мы не останавливались и где я не читал стихи. Никогда нога поэта туда не ступала.
Эти поездки были в то время часто, и ругань часто. Скажем, как раз я ездил, в Вологде был, – а меня тут поносят газеты, писали бог знает что. Некоторые наши официальные писатели выступали: пусть-ка Евтушенко поедет в глубинку, чтобы его осудил его собственный народ!
Да может быть, ни один поэт в жизни своей не видел столько любви народной, сколько видел я. Потому что я никогда не отворачивался от народа, я ездил всюду, и всюду читал свои стихи. Что, кажется, я умею делать.
Мне грозили: «Гнев народа обрушится на него, если он появится перед лицом народа!» Во-первых, я никогда не отделял себя от народа – я тоже его часть. И я, когда бываю за границей, даже сейчас, когда я преподаю в Америке русскую литературу, я чувствую себя частью моего народа и литературы моего народа. В конце концов, я написал такие строчки: «Как нежен гнев народа моего». Все нападки на меня, которые были, – они ничего не стоят в моей жизни перед памятью о том, с какой любовью меня встречали и встречают до сих пор.
Всего два года назад я был на Грушинском фестивале. Я читал стихи для 42 тысяч людей, собравшихся на берегах Волги. Я читал ночью свое только что написанное тогда стихотворение о матче СССР – ФРГ в 55-м году, когда все ждали, что будет какая-то бойня. Потому что на трибунах много фронтовиков, и много инвалидов собралось на матч, выкатили все оставшиеся, скрывавшиеся где-то в подвалах, их же с бесстыдной беспощадностью выселяли и отправляли в отдаленные места, на всякие острова, чтобы они не портили пейзажа нашей расцветающей матушки-Москвы. И они приехали туда на стадион. У них у всех висели надписи на дощечках «Смерть фрицам!», «Отомстим за «Динамо»-Киев!» – тот случай с расстрелом футболистов.
И вот начался этот матч. Их было тысяч 8—10, не меньше, безногих инвалидов, сидевших на этих своих деревянных платформах на шарикоподшипниках. И людям вокруг было просто страшно. Мы были с Женей Винокуровым, фронтовиком, он дошел до Пруссии, и сейчас его трясло, что тут будет бойня какая-то.
Никакими инструктажами невозможно научить тому, что произошло на футбольном поле в сражении между нашими и немецкими футболистами. Первый гол забили наши, Паршин забил. Их не смогли сдержать, он упал. Фриц Вальтер, капитан команды, после войны был военнопленным у нас и видел, как рядом страдали русские пленные, которым они все строили, – пленные в своей собственной стране, только без таких надежд и прав, как у военнопленных. Вальтер все это помнил. В немецкой команде были еще два футболиста, отбывшие в плену, они тоже знали, как русский народ страдал во время войны. И это сыграло свою роль.
Все понимали, что сейчас на них смотрит вся Европа. Тогда еще практически никакого статуса взаимоотношений с ФРГ у Союза не было. Матч проходил перед ожидавшейся встречей Аденауэра с Хрущевым. Немцы ситуацию по-граждански чувствовали. И когда Паршин упал, Фриц Вальтер поднял его бережно, пошел вместе с ним в обнимку к центру поля.
Они начали игру, и за счет потери красоты игры и остроты играли очень корректно, дружелюбно, с достоинством, а это была острая игра. Наши выиграли 3:2. И с поля уходили все в обнимку. Яшин, молодой еще, вышедший первый раз за сборную, отдал свои перчатки немецкому своему коллеге.
Психологически это было одно из самых больших событий в моей жизни – тогда я раз и навсегда поверил в возможное братство человечества, понимаете? То, что произошло во время войны между немцами и нами, – это страшно, но я поверил в братство раз и навсегда. На этом я стоял и стою.
И когда я прочел стихи об этом, стоя перед 42-мя тысячами молодых в основном людей, которые сидели на горе, – они сигналили фонариками, когда я дважды споткнулся где-то. Некоторые уже знали эти стихи – гора ответила, голоса подсказали мне. Я закончил читать, и мальчик, который должен был всё это завершать своей песней – а была глубокая ночь, концерт после полуночи, – мальчик вдруг понял. Гора встала после моего выступления, первый раз за 39 лет Грушинских фестивалей она встала. И он, поняв ее настроение, вдруг запел не свою песню – поразительная интуиция у этого молодого парня. Он спел песню Окуджавы «У всех у нас одна победа» из «Белорусского вокзала». И вдруг эта 42-тысячная стоя запела. Они знали все слова до последней буковки, эти слова человека, которого на моих глазах исключали из партии, как его обзывали – пошляк с гитарой и так далее. Я увидел там, что сделала поэзия шестидесятников, и как она осталась в сердцах людей, и что она будет жить вечно.
Борис Стругацкий
Блаженный мир хищных вещей века
Михаил Веллер. Это я же когда-то ходил к вам в семинар, а не вы ко мне, правда?
Борис Стругацкий. Да.
М.В. Так вот, вы, будучи патриархом советской фантастики, вообще советской литературы, ощущаете себя патриархом? Вот каково это: ощущать себя патриархом?
Б.С. Вы знаете, Миша… Ничего хорошего. Быть патриархом – это прежде всего означает каждый день лечиться. Каждый день! – будь оно все проклято. Это в первую очередь. Всё остальное во вторую, в третью и четвертую.
Иногда мне приходит в голову совершенно неожиданная мысль о том, что я действительно оказался сейчас чуть ли не самым старым отечественным фантастом XX века. Но потом я спохватываюсь, что есть еще более уважаемый и старейший член нашей общины – Евгений Войскунский, которому я передаю пламенный привет. Так что я патриарх второго разряда. Это уже хорошо. Но, в общем, ничего интересного в том, чтобы быть патриархом, нет. Я всегда это подозревал, так оно и оказалось на самом деле.
М.В. Вы знаете, в литературе нашей вот сейчас есть Фазиль Искандер, но Искандер, в общем, нигде не показывается, ни очно, ни заочно, ни в чем не участвует. И уже несколько моложе – Андрей Битов, который как-то показывается, но, в общем, книги у него выходят и переиздаются редко, не звучат. Вы – продолжаете присутствовать на книжных прилавках, в библиотеках, в читательских руках и мозгах в полном объеме. В этом плане вы безусловно вне конкуренции. И вот это место ваше, которое я не могу забыть… Для тех, кто не ходит и не знает: в том помещении, куда переехал сгоревший ленинградский, петербургский Союз писателей, стоит кресло типа трона, которое называется «Кресло Бориса Стругацкого», и более никому на ваше место садиться не дозволено. В разных смыслах.
Б.С. Но это разве так, Миша? Я что-то сомневаюсь. Это какая-то легенда. Не было этого.
М.В. Слушайте, перестаньте разыгрывать, потому что я видел его сам. Его приволок Каралис, основатель писательского клуба, с ребятами откуда-то. И вот оно там стоит: с красным сафьяновым сиденьем, с белой резной высокой спинкой и подлокотниками, и на него в моем присутствии никто не мог садиться.
Б.С. Миша.
М.В. Да?
Б.С. Все правильно, кроме одного. Стоит это кресло не в Доме писателей, как вы это…
М.В. Нет-нет-нет… на Макаровской набережной, в этом клубе.
Б.С. Вот там в клубе, в центре литературы и книги, вот оно стоит, такое кресло. Действительно стоит. То есть в последний раз, когда я там был, оно стояло.
М.В. Вот. И это я имел в виду… (Нет, прекрасно: уже не соврал, – это уже успех.) И вот с высоты этого кресла: что видно, различимо сегодня вам из советской фантастики шестидесятых – семидесятых, того периода, который сейчас ощущается неким золотым периодом великой империи?