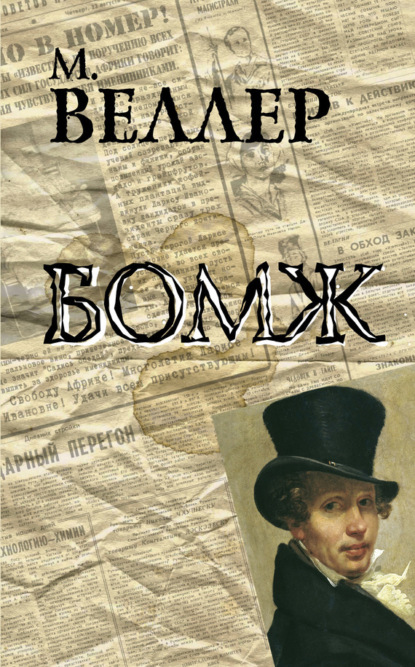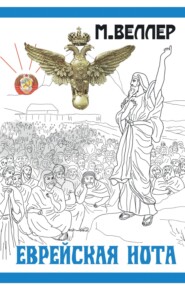По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бомж
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он сидит в кресле, гадина, в подвале своем дворницком, и барахло вокруг навалено горами вдоль стен. Говорят, в районе ремзавода у него четырехкомнатная квартира и любовница из стриптиз-клуба. А кресло старинное, высокая спинка мореного дуба резного, и кожа свиная потертая бронзовыми гвоздиками окантована. Отреставрировать это кресло – цены ему не будет. Из-за этой шикарной норы его Барсуком и прозвали.
– Трубы горят? – глумится он.
А ведь один удар ребром ладони по горлу – и покойник. Да ведь найдут, вот в чем беда. Вру, не найдут, на хрен он ментам сдался, прижучат первого же попавшегося бомжару, и дело с концом. А кому потом товар сдавать будешь?..
– До тридцати семи лет я вообще не знал, что такое головная боль, хоть с похмелья, хоть на ринге, – душевно жалуюсь я, строя отношения.
Барсук запускает руку в ларь, заменяющий ему письменный стол, и достает голубоватый пластиковый флакон 0,7 «Help» – стекломоя. Цена его полтинник, и от него два месяца назад загнулся Узеня.
– Вот спасибо, – говорю я. Это изопропилен, технический спирт, сто грамм – а следующую сотку уже пьешь нектара в райских кущах. – И дуста на закуску, да?
– Че рыло-то воротишь, – бурчит он. – Люди берут, не жалуются.
– А ты часто слышал, чтоб покойники жаловались?
– Так а че те надо? – кривится он, но убирает свой яд и ставит на ларь розовый лось он. Экономный парень. Девяносто пять грамм – по сорок пять рублей за флакон, если место знать.
Я забираю флакон и обратно одну рубашку.
– Куда потащил?
– Один флакон – одна рубашка. Два флакона – две рубашки.
– Нет у меня больше розового! Зайди завтра – отдам.
– Ты – отдашь?! Рубашечка, кстати, – чистый хлопок, смотри.
– Ну нету, честно говорю.
– Давай чего есть!
Барсук правильно прикидывает силы и расклад и добавляет флакон «Ландыша» – восемьдесят пять грамм, цена та же, кпд тот же: семидесятиградусный нормальный спирт. В аптеке это все в полтора раза дороже. Если есть. Если пустят. Если дадут…
Жизнь прекрасна
Время к двенадцати. Солнышко вышло и греет. Бабье лето, тепло. Стена нагрелась, и сидеть, прислонившись спиной к теплым кирпичам, приятно. Кусты закрывают до окон первого этажа, листья еще не все облетели, и я здесь отдыхаю в собственном саду. Недалеко воробьи чирикают, на детской площадке мелкие галдят, из форточки вверху справа борщом тянет. Мысленно я ставлю Богу свечку: вот и еще день жизни. Когда быть лучше, чем не быть – чего еще надо?
Я выпил половину розового, закусил помидором, сплюнув гниль, и засмолил сигареткой – на две трети целой. Допил, закусил сырком и еще полсигаретки выкурил. После этого надо посидеть немного – чтоб приход был весь. Дышать неглубоко, чтоб не вентилировать зря легкие, не улетучивать кайф, он только завязывается. Глаза оказались прикрыты, и под веками светлосерые и темные пятна сливаются в муаровый узор, расцвеченный прихотливым желто-красным крапом. Эти текучие переливы теней неуловимым образом передают картины детского покоя, уюта, любви и надежд юности, и саму атмосферу юношеской свежести: и бесконечные расширяющиеся коридоры будущих твоих жизней, и увлекающий зов радости и победы на всех путях, и лица мамы и папы становятся их голосами, теплая родная рука обнимает тебя, и ничего уже больше не нужно.
Вот здесь необходимо сделать усилие над собой и открыть глаза, иначе могут появиться слезы и очнешься в черной депрессии. А в награду за силу воли и ощутишь солнышко бабьего лета, и тепло стены, и птичье цвирканье, и радость в теле и сознании. Вот я теперь и наслаждаюсь.
Флакон лосьона равен по содержанию спирта и общему эффекту нормальному стакану водки – это мы давно высчитали. Теперь я грамотно распределяю «Ландыш» на три глотка по двадцать пять-тридцать граммов – на три небольшие культурные такие рюмочки. В паузах между рюмочками надо пожевать немного хлебушка, сделать несколько затяжек и подумать о чем-нибудь легком и приятном. Вспомнить хорошее старое кино, или вообразить себе с завтрашнего дня новую жизнь настоящего крутого мачо, поднимающегося с любого дна и выходящего из любых ситуаций; или вспомнить кого-нибудь из своих баб и рисовать себе (с чудесными подробностями, дополняя действительность до идеала), как замечательно вы трахались, и не расстались, она любила тебя, ты ее, дети выросли здоровыми и удачливыми, дом благополучен, и друзья завидуют вам. А завтра – ведь вполне возможно – рядом с тобой проносится погоня одной машины за другой, стрельба, все трупы, рядом лежит кейс, и ты хватаешь и скрываешься с этим кейсом, а там – шесть шнуровок баксов, шесть вакуумных запрессовок в полиэтилен – по десять пачек стольников пакет, по сто листов пачка: шестьсот штук. И ты суешь кейс в грязный пакет с помойки и прячешь в своей норе поглубже, один стольник меняешь в дальнем обменнике, чтоб знакомые здесь не засекли, покупаешь на базаре скромную, но пристойную одежду, идешь в баню, в парикмахерскую, к стоматологу, покупаешь квартиру – нет, сначала надо восстановить документы, но это дело наживное, особенно если в лапу сунуть…
…А вы говорите – алкоголизм. Ты сел под стену мешком дерьма – и через час встал человеком, который все может, и окончательно ничего не потеряно, и все тебе по силам. В меру выпивший человек – это и есть хозяин жизни и царь природы!
Прогулка
Если честно – никогда я не любил работать. Я любил свободу. Что же здесь плохого. Труд – это принуждение. И какая разница, принуждает тебя государство, семья или Господь Бог. Ненавижу любое принуждение. Сами придумали – сами работайте. Кони тупые.
Память – странная штука. То помнишь все, а то ничего. Утром помнишь одно, а вечером другое. Вдруг – р-раз! – будто все прожектора направлены в одну точку, и тогда ярчайше высвечивается какой-то забытый случай в мельчайших деталях. И серый колпак – хоп на голову! – и вообще ничего не помнишь, хорошо бы только сдохнуть тихо и завязать со всей этой бодягой.
Я иногда не помню, как называется город, в котором я живу. И как я сюда попал. Честное слово. А потом думаю: какая на хрен разница. И перестаю вспоминать. А потом оно само восстанавливается. Но не навсегда.
А другое рад забыть, так застряло и не уходит.
Рука воспитательницы! Голос учительницы! Очки директора! Дневник! Отдел кадров! Аусвайс, виселица, крематорий, фашисты!
Я ненавидел ходить в детский сад. Утром, зимой, в темноте. Ненавидел школу. По звонку, вместе, встать-сесть, всем на перемену, подними руку. Ненавидел страх остаться без работы: страх перед крушением бизнеса, страх перед безденежьем и нищетой.
Ненавидел страх перед тем, что жена мне изменит или вообще меня бросит. Страх перед болезнью детей. Ужас перед смертью матери. Кошмар перед собственной смертью меня изводил до судорог, но им я переболел лет в восемь, собственная смерть перестала быть чем-то личным, а так – деталь анкеты.
Я читал сказки про бродячих рыцарей – идеальные люди вели идеальную жизнь. Я представлял себе утро бродячего рыцаря: встаешь когда хочешь, делаешь что хочешь и едешь куда хочешь. Убил дракона. А мог бы не убивать, мог объехать мимо. Захотел – убил, захотел – к черту послал. Женился на принцессе. А мог бы вообще не жениться. Захотел – женился. Захотел – стал отшельником или уплыл за море.
И вот я пованиваю, возможно, но никого не заставляю себя нюхать. Питаюсь скромно, но ради куска хлеба потеть не стану и уж тем более подлости и злодейства не совершу. Живу без лишнего комфорта, но и в рабство себя на десять лет ради собственной собачьей конуры не продаю.
Уроды вы все тупые. Я-то и есть тот самый идеальный свободный человек, о котором «тысячелетия мечтали лучшие умы человечества», или как там было в учебнике. Подотритесь вашим учебником – и марш обратно на плантацию. Трудитесь, грязные негры, солнце еще высоко!
А пока вы вкалываете и трясетесь перед завтрашним днем, пока из кожи вон лезете, чтоб не потерять достигнутого или достичь большего – свободный человек выходит на прогулку. Джентльмен и денди выходит на прогулку. Выше, чем джентльмен и денди – аристократ духа выходит на прогулку, и ничто не может лишить его статуса и привилегий.
Я тихо гуляю по солнечной стороне улицы Ленина. Проносящиеся машины развлекают меня, они придают пространству энергетику и темп. Они красивые и со всего мира. Больше всего тойот и ниссанов, но ауди и БМВ тоже много. Мерсы почти все черные, а джипы преимущественно мокрый асфальт или серый металлик. Маленькие дамские пежо и рено часто яркие – зеленые, красные, даже желтые. Не знаю, почему синих машин практически нет. Жигулей почти не осталось, и эта квадратненькая коробочка из другой эпохи каждый раз, как толчок сердца, гонит по жилам тихое презрение к родине: где все, а где туземцы мы.
Прогулка по улице не сравнится ни с каким клубом. У мужчин я смотрю на лица и плечи. Большая часть – полный отстой. Озабоченные, слабые, сломанные. Хмурые – а не бойцы. Готовы к злости – а всерьез не опасны. Продукт подчинения. Боже мой, как тяжело, горестно как принадлежать к быдлу. Ведь я сам такой же, просто стою вне толпы.
Красивый мужик редок. Твердое лицо, костистый подбородок, широкие плечи, движения с запасом. Такие редко движутся по тротуару. Иногда выходят из хороших тачек. От них излучается уверенность и превосходство – неброско так, сдержанно.
Самые красивые мужчины – азербайджанцы. Мы с ребятами интересовались – те же турки, только горские. А турки веками крали лучших баб и увозили в янычары лучших мальчиков. Вот и вывели породу. Селекция. Я, конечно, жирных торговцев в виду не имею. Слащавые и трусливые хачики нас не интересуют. Но часто даже бомбила на «копейке», цветочник какой-нибудь: лицо точеное, медальный профиль, квадратный подбородок, резкие морщины воина, широкие прямые плечи.
Красивый славянин, похожий на викинга с картинки, крайне редок. Не то перевелись, не то съехали, не то и не было никогда: затерялась Русь в мордве и чуди, как писал поэт.
А у женщин гораздо больше есть на что смотреть. Лицо, грудь, талия, попка, бедра, ноги. Мужчина – это организм для делания дел и получения денег. А женщина – это человек, имеющий ценность сам по себе. Господи, сколько же у нас красивых женщин! Почему, каким образом в стране уродов столько красивых женщин? И лица-то у них добрые почти всегда… Почему обрекли их жить с этими чмошниками тестомозглыми, в чем здесь смысл…
Вот у этой такие волосы белокурые, пепельные, чуть вьющиеся, что остальное уже лишнее. Ох, вот это ноги прошли – точеные колонны от самых ушей, лица сзади мне не видно, да и незачем. А вот это бюст! вот это сиськи! вот это гордость женская! и как же ловко эти дыни в плащ-то упакованы! У мужиков глаза должны просто пеленой заволакиваться. А попки хороши каждая третья, от силы четвертая; я считал. Есть плоские, есть треугольные, если сползающие под колени, все, конечно, есть. Но каждая четвертая – просто произведение искусства, музей скульптуры по ним плачет. Ах грива рыжая подвитая по ветру летит! Глаза, господи милый, какие глаза-та бывают, блестящие, с раскосинкой, зеленоватые, прозрачные, а внутри грустинка дрожит, умереть на месте за эту грустинку, и на миг удалось взглядами с ней встретиться, я этого взгляда долго не забуду…
А обувь какая красивая в витрине. А бутылки какие разные, красивые, этикетки – высокая живопись, и все ведь есть. И я могу остановиться и рассматривать эти бутылки сколько угодно, надписи читать, градусы, представлять себе вкус, и что чем лучше закусывать.
Пассажиры лезут в подошедший автобус, на скамейке остается книжка, и маленький хроменький бомж ловко вдвигается под навес остановки и сует книжку себе в карман.
– Здорово, Белинский!
Белинский
– Чего разорался, – недовольно сипит он. Сипит-то он сипит, но как выпьет и разойдется – такие речи произносит, не то соловей, не то соловей-разбойник. И все на литературу сворачивает. Он и был учителем литературы. Пока его один родитель в ухо не наладил – за двоечника. Не то колотуха у родителя была поставлена, не то уши у наших литераторов слабые и не слышат они предупреждений судьбы. Родитель его год предупреждал. А после въехал. И половина мозга у Белинского вылетела из противоположного уха. Теперь он с нами. Для нашей жизни любой половины мозга вполне достаточно.
– А угадай-ка, что это: в одно ухо влетает, в другое вылетает?
Намек его злит: всплакнет или укусит.
– Лом!.. – наставительно говорю я, он не выдерживает и хохочет вместе со мной, брызгая сквозь редкие коричневые зубы. Диковатое это зрелище – хохочущие середь людей бомжи. Энергия у нас не та, разве что на жиденькое гыгыканье хватает. Смех требует молодости, здоровья; и благополучия. Смех – это показатель общего счастья человека, а вернее даже – его жизненной перспективы.