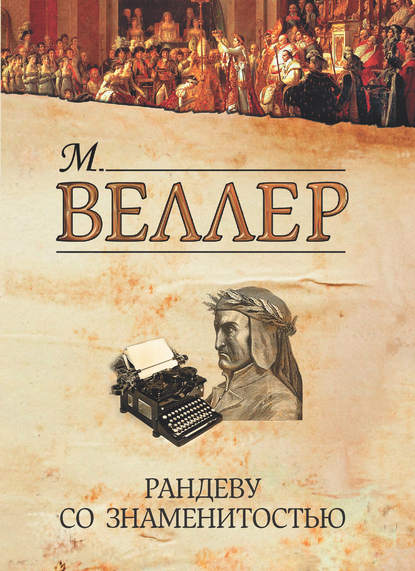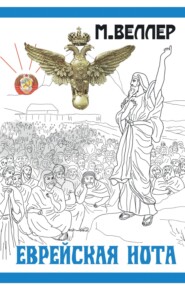По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рандеву со знаменитостью (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мальчишкой я видел Михаила Чехова, – сказал хозяин, и я помертвел: я не знал, кто такой Михаил Чехов. – Я мечтал всю жизнь о литературной студии. Не будьте идеалистом, мне в высшей степени плевать на все; просто – это, видимо, мое дело.
Не обольщайтесь, – он помешал серебряной ложечкой лимон в просвечивающей кофейной чашке. – Я не более чем дал вам сумму технических приемов и показал, как ими пользуются. Кое на что раскрыл вам глаза, закрытые не по вашей вине. Сэкономил вам время, пока еще есть силы. С толком ли – время покажет…
В его присутствии сантименты были немыслимы; уже потом мне сделалось тоскливо ужасно при воспоминании об этом прощании.
Сколько породы и истинной, безрекламной значительности оказалось в этом человеке!.. Он мог бы служить украшением любого международного конгресса, честное слово. Эдакий корифей, снизошедший запросто на полчаса со своего Олимпа.
Он потягивал коньяк, покачивал плетеной туфлей, покуривал прямую капитанскую трубку. И благодушно давал напутственные наставления.
– Читайте меньше, перечитывайте больше, – учил он. – Четырех сотен книг достаточно профессионалу. Когда классический текст откроет вам человеческую слабость и небезгрешность автора – вы сможете учиться у него по-настоящему.
– Читая, всегда пытайтесь улучшать. Читайте медленно, очень медленно, пробуйте и смакуйте фразу глазами автора, – тогда сможете понять, что она содержит, – учил он.
– Торопитесь смолоду. Слава стариков стоит на делах их молодости. Возрастом пика прозаика можно считать двадцать шесть – сорок шесть; исключения редки. Вот под пятьдесят и займетесь окололитературной ерундой, а раньше – жаль.
…Позже, крутясь в литераторской кухне, я узнал о нем много – все противоречиво и малоправдоподобно. Те два года он запрещал мне соваться куда бы то ни было, натаскивал, как тренер спортсмена, не допускаемого к соревнованиям до вхождения в форму.
– Умей оттаскивать себя за уши от работы, – учил он. – Береги нервы. Профессионализм, кроме всего прочего – это умение сознательно приводить себя в состояние сильнейшего нервного перевозбуждения. Задействуются обширные зоны подсознания, и перебор вариантов и ходов идет в бешеном темпе.
(– Кстати, – он оживлялся, – сколь наивны дискуссии о творчестве машин, вы не находите? Дважды два: познание неисчерпаемо и бесконечно, применительно к устройству человек – также. Мы никогда не сможем учесть – а значит, и смоделировать – механизм творческого акта с учетом всех факторов: погоды и влажности воздуха, ревматизма и повышенной кислотности, ощущения дырки от зуба, даже времени года, месяца и суток. Наши знания – «черный ящик» – ткни так – выйдет эдак. Моделируем с целью аналогичного результата. Начинку заменяем, примитивизируя. Шедевр – это нестандартное решение. Компьютер – это суперрешение суперстандарта, это логика. Искусство – надлогика. Другое дело – новомодные теории типа «Каждый – творец» и «Любой предмет – символ»; но тут и УПП слепых Лувр заполнит, зачем ЭВМ. Нет?)
– Художник – это турбина, через которую проходит огромное количество рассеянной в пространстве энергии, – учил он. – Энергия эта являет себя во всех сферах его интеллектуально-чувственной деятельности; собственно, сфера эта едина: мыслить, чувствовать, творить и наслаждаться – одно и то же. Поэтому импотент не может быть художником.
Он величественно воздвигся и подал мне руку. Все кончилось.
Но на самом деле все кончилось в октябре, когда я вернулся с заработков на Северах, проветрив голову и придя в себя. Неделю я просаживал со старыми знакомыми часть денег, а ему позвонил второго октября, и осталось всегда жалеть, что только второго.
Тридцатого сентября его увезли с инфарктом. Через сорок минут я через справочные вышел по телефону на дежурного врача его отделения и узнал, что он умер ночью.
Родни у него не оказалось. В морге и в его жилконторе мне объяснили, что необходимо сделать, если я беру это на себя.
Придя с техником-смотрителем, я взял ключ у соседей и с неловкостью и стыдом принялся искать необходимое. Ничего не было. Все, что полагается, я купил в ДЛТ, а на Владимирском заказал венок и ленту без надписи. Вряд ли ему понравилась бы любая надпись.
Зато в низу буфета нашел я пачищу своих опусов, аккуратно перевязанную. Они были там все до единого. И еще четыре пачки, которые я сжег во дворе у мусорных баков.
А в ящике письменного стола, сверху, лежал конверт, надписанный мне, с указанием вскрыть в день тридцатилетия.
Я разорвал его той же ночью и прочитал:
«Не дождался, паршивец? Тем хуже для тебя.
Ты не Тургенев, доходов от имения у тебя нет. Профессионал должен зарабатывать. Единственный выход для таких, как ты, – делать халтуру, не халтуря. Тем же резцом! Есть жесткая связь между опубликованием и способностью работать в полную силу. Работа в стол ведет к деградации. Кафка – исключение, подтверждающее правило. Булгаков – уже был Булгаковым. Ограниченные лишь мифологическими сюжетами – были, однако, великие художники. Надо строить ажурную конструкцию, чтобы все надолбы и шлагбаумы приходились на предусмотренные свободным замыслом пустоты: как бы ты их не знаешь.
А иначе приходит ущербное озлобление. Наступает раскаяние и маразм. «Он бездарь! Я могу лучше!» А кто тебе не велел?.. Раскаяние и маразм!»
Несколько серебряных ложек, мейсенских чашек и хрустальных бокалов оказались всеми его ценностями. Потом я долго думал, что делать с тремя сотнями рублей из комиссионок, не придумал, на памятник не хватило, и я их как-то спустил.
Ночью после похорон я опять листал две амбарные книги, куда записывал все слышанное от него.
«Учти „хвостатую концовку“, разработанную Бирсом».
«Выруби из плавного действия двадцать лет, стыкуй обрезы – вот и трагическое щемление».
«Хороший текст – это закодированный язык, он обладает надсмысловой прелестью и постигается при медленном чтении.»
«Не бойся противоречий в изложении – они позволяют рассмотреть предмет с разных сторон, обогащая его».
«Настоящий рассказ – это закодированный роман».
«Короткая проза еще не знала мастера контрапункта».
И много еще чего. Все равно не спалось.
День похорон был очень какой-то обычный, серый, ничем не выдающийся. И он лежал в гробу – никакой, не он; да и я знаю, как в морге готовят тело к погребению…
Звать я никого не хотел, заплатил, поставили гроб в автобусе и я сидел рядом один.
Северное кладбище, огромное индустриализованное усыпалище многомиллионного города, тоже к размышлениям о вечности не располагало в своем деловом ритме и в очередях у ворот и в конторе.
Мне вынесли гроб из автобуса и поставили у могилы. Я почему-то невольно вспомнил, как Николай I вылез из саней и один пошел за сиротским гробом нищего офицера; есть такая история.
Прямо странно слегка, как просто, обыденно и неторжественно все это было. Будто на дачу съездить. Но когда я возвращался с кладбища, мне казалось, что я никогда ничего больше не напишу.
Рандеву со знаменитостью
1. Парад
Торжественный зал. Люстра, кинохроника, смокинги, блики фотовспышек на лысинах. Недержание лести: симфония славословий.
– …за величайшее достижение в области литературы двадцатого века. И, может быть, литературы вообще!..
Не помыслить в искусстве (и в науке!) свершения большего, чем ответы на все вечные вопросы. Дерзновенна уже одна мысль о постановке подобной задачи.
Эта задача не только поставлена – она решена. (Овация.)
Сегодняшняя Премия, слава, богатство – суетный прах, запоздалая тень заслуженной награды, которой по праву мы чтим Его. Слава и честь покорителю высочайшей из вершин, чей подвиг не будет превзойден в веках. (Бурная овация. Чествуемый промакивает лоб платком.)
– Путь на вершину – это восхождение на Голгофу, а не на пьедестал. И чем выше вершина – тем тяжелее крест. Пьедестал памятника сделан из плахи таланта.
Ум его не знал запретов, а воля не ведала преград. Отказ от карьеры, сгоревшие страсти, погибшие способности, годы унижений и нищеты, непереносимых сомнений, разъедающих кислотой душу и мозг, годы метаний и мук, когда обретение оборачивается миражом, и непостижимость миража завораживает сумасшествием и баюкает самоубийством – такова плата за гений: бесценное сокровище, открытое человечеству. (Зал слегка пришиблен.)
Выжженная земля остается за спиной того, кто один на один уходит в погоню за истиной. (Нерешительные аплодисменты.)
– …пример неколебимой стойкости духа. Юность и страсть, здоровье и мудрость, честность и сила переплавились в сжигающем жаре вдохновения, являя невиданный сплав – ту человеческую сталь, для которой возможно даже невозможное.
Вера и мужество, интуиция и расчет, труд и талант, целеустремленность и нечеловеческая выносливость – малая часть качеств, необходимых для написания истинной Книги. Той, что открывает человечеству новую страницу в познании. (Чествуемый уже тихо тоскует.)
– …венец величественного здания литературы, созданного гением земной цивилизации! Пока существует человечество – оно будет читать эту Книгу и свято чтить это имя. (Жарко; клюют носами, поглядывают на часы.)