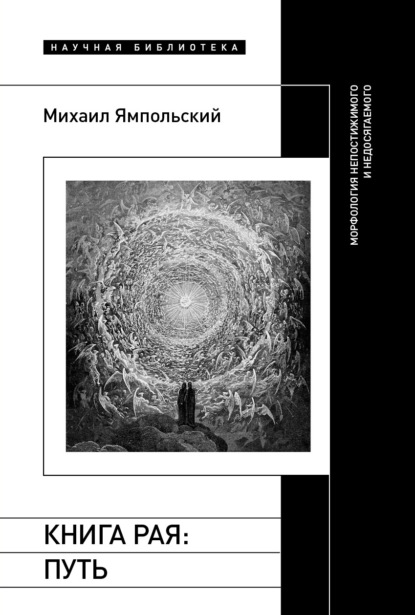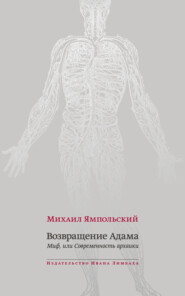По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Книга рая. Путь. Морфология непостижимого и недосягаемого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Книга рая. Путь. Морфология непостижимого и недосягаемого
Михаил Бениаминович Ямпольский
Эта книга рассказывает о попытках людей найти путь к раю, то есть к неведомому, невообразимому, трансцендентному. Стремление к неведомому и недостижимому в какой-то момент начинает определять антропологию человека, вступающего в мир, наделенный развитием, то есть историей. Ямпольский рассматривает разные варианты этого экзистенциального пути, который полагает в качестве цели в одних случаях рай земной (то есть условно достижимый), а в иных – рай небесный, по определению недосягаемый. Разные представления о рае предполагают разные стратегии его достижения – от путешествия души в сновидениях, ее вознесения после смерти или в мистическом экстазе до паломничества, крестового похода или мореплавания. Стремление к трансцендентному определяет не только теологию, но даже отношение к текстам и уровням их значения, когда переход от буквального смысла к аллегорическому начинает приравниваться к восходящему движению души. Эта сосредоточенность на пути в значительной степени определяет и общую модель мира – космографию. Книга охватывает время от поздней Античности до Возрождения и уделяет особое внимание Данте. Исторический материал, однако, нужен автору и для того, чтобы напомнить читателю, что человек – не просто обитатель места, но по определению homo viator, человек странствующий. Такое напоминание приобретает особое значение в нынешнюю эпоху миграций и насильственной утраты домашнего очага.
Михаил Ямпольский
Книга рая: путь. Морфология непостижимого и недосягаемого
Михаил Ямпольский
КНИГА РАЯ: ПУТЬ
Морфология непостижимого и недосягаемого
Новое литературное обозрение
Москва
2024
УДК 130.3
ББК 87.524
Я57
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Научное приложение. Вып. CCLXIV
Михаил Ямпольский
Книга рая: путь. Морфология непостижимого и недосягаемого / Михаил Ямпольский. – М.: Новое литературное обозрение, 2024.
Эта книга рассказывает о попытках людей найти путь к раю, то есть к неведомому, невообразимому, трансцендентному. Стремление к неведомому и недостижимому в какой-то момент начинает определять антропологию человека, вступающего в мир, наделенный развитием, то есть историей. Ямпольский рассматривает разные варианты этого экзистенциального пути, который полагает в качестве цели в одних случаях рай земной (то есть условно достижимый), а в иных – рай небесный, по определению недосягаемый. Разные представления о рае предполагают разные стратегии его достижения – от путешествия души в сновидениях, ее вознесения после смерти или в мистическом экстазе до паломничества, крестового похода или мореплавания. Стремление к трансцендентному определяет не только теологию, но даже отношение к текстам и уровням их значения, когда переход от буквального смысла к аллегорическому начинает приравниваться к восходящему движению души. Эта сосредоточенность на пути в значительной степени определяет и общую модель мира – космографию. Книга охватывает время от поздней Античности до Возрождения и уделяет особое внимание Данте. Исторический материал, однако, нужен автору и для того, чтобы напомнить читателю, что человек – не просто обитатель места, но по определению homo viator, человек странствующий. Такое напоминание приобретает особое значение в нынешнюю эпоху миграций и насильственной утраты домашнего очага.
В оформлении обложки использованы гравюры Густава Доре к «Божественной комедии» Данте Алигьери.
ISBN 978-5-4448-2387-3
© М. Ямпольский, 2024
© С. Тихонов, дизайн обложки, 2024
© OOO «Новое литературное обозрение», 2024
Посвящается Ирине Сандомирской, в чьем гостеприимном доме была написана эта книга
ВСТУПЛЕНИЕ
1. Ад как начало пути
Мы живем в мире, где ад всегда находится неподалеку. По воле одного человека или группы людей он всегда готов разверзнуться у нас под ногами, будь то в форме войны или в форме террора. Впрочем, одно редко обходится без другого. В 2006 году папа Бенедикт XVI «отменил» чистилище как часть католической догмы, объяснив это тем, что чистилище – это «не более чем гипотеза». Но понтифику и в голову не пришло отменить ад как простую гипотезу. Рейчел Фалконер показала, что многие политические события сегодняшнего мира освещаются в медиа – и, следовательно, воспринимаются людьми – в тех категориях, которые исторически закрепились за описаниями ада. Она называет такие описания katabasis (от греческого ????????? – «сошествие в ад»), или «адскими»[1 - Falconer R. Hell in our Time: Dantean Descent and the Twenty-first Century «War on Terror» // Hell and its Afterlife. Historical and Contemporary Perspectives / Eds. I. Moreira, M. Toscano. Farnham; Burlington: Ashgate, 2010. Р. 217–236.].
Но ад обладает странным свойством порождать надежду. Надежда возникает в аду как едва ли не единственный способ выжить. Ад всегда стремится закрепиться надолго, война должна тянуться без видимого конца. Неслучайно лоскутная идеология ада всегда традиционализм – сохранение отжившего, как будто мертвечина не имеет жизненного срока и будет тянуться вечно. Ад, однако, часто порождает утопию, главный смысл которой показать, что «темные времена» не вечны, как им самим хочется верить. Бруно Беттельгейм описывает, как пленники лагерей смерти по мере пребывания в лагере все чаще и глубже погружались в дневные грезы и все меньше жили в мрачной реальности:
…надежды и ожидания старых заключенных часто принимали форму эсхатологических или мессианских надежд; это согласовывалось с ожиданием того, что только такого рода событие может покончить с миром и освободить их[2 - Bettelheim B. Individual and Mass Behavior in Extreme Situations // The Journal of Abnormal and Social Psychology. October 1943. Vol. 38. № 4. Р. 443.].
Именно страшная война парадоксальным образом привела в начале прошлого века к взрыву утопического сознания (к которому можно отнести и марксизм, несмотря на трагические последствия его триумфа). Эрнст Блох в книге, написанной в 1918 году, являвшейся прямой реакцией на окопный ад и названной им «Дух утопии», писал о погружении Германии в преисподнюю в том числе и в таких выражениях:
…университеты воистину стали духом погребальных курганов, наполненных вонью разложения и обездвиженным мраком. Те же, что кажутся совершенно воспрявшими, постоянно воспроизводят звучавшее в ушах реакционеров столетней давности: лозунги о родной почве, традиционализм Отечества и тот склеротический романтизм, который забыл о крестьянской войне и видит только рыцарские замки, возвышающиеся в зачарованных лунных ночах[3 - Bloch E. The Spirit of Utopia. Stanford: Stanford University Press, 2000. Р. 2.].
Ад постоянно рядится в одежду реконструкторов и реставраторов. И главной целью такого маскарада является приостановка времени, в том числе и времени правления того или иного диктатора. Все это призвано создать ощущение, что из ада нельзя выйти. Его обитатели обречены на постоянное повторение того же самого. Но надежда проникает в ад не только как психологическая реакция на безысходность. Дело в том, что война (это последнее прибежище деспотического государства) несет в самой себе сильнейший импульс дестабилизации и обновления. Неслучайно, конечно, Делез и Гваттари связали «машину войны» с номадологией, то есть с деструктивной дестабилизацией повторения одного и того же. Вот как они характеризовали отношения войны и деспотического «параноидального» государственного аппарата:
Заметим, что война не включена в этот аппарат. Либо Государство располагает насилием, не проходящим через войну, – вместо военных оно использует полицейских и тюремщиков, у него нет вооружения, и оно в нем не нуждается, Государство действует посредством немедленного магического захвата, оно «хватает» и «связывает», препятствуя любой битве. Либо Государство обретает армию, но так, что последняя предполагает юридическую интеграцию войны и организацию военной функции. Что же касается самой машины войны, то она, похоже, вовсе не сводится к аппарату Государства, оставаясь по ту сторону его суверенитета и являясь изначальной по отношению к его закону – она приходит откуда-то еще. Индра – воинственный бог <…> разрывает узы, так же как предает договор. Он показывает, что furor противостоит мере, скорость – тяжести, тайное – публичному, мощь – суверенитету, машина – аппарату. Он свидетельствует о другой справедливости, иногда о непонятной жестокости, но иногда и о неведомой жалости (ибо он разрывает связи…). Он свидетельствует, прежде всего, о других отношениях с женщинами, с животными, ибо видит любую вещь в отношениях становления…[4 - Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург; М.: У-Фактория; Астрель, 2010. С. 588–589.]
Номадизм усматривает становление там, где деспотия стремится утвердить неизменные формы. Именно поэтому тирании, делающие ставку на войну как способ укрепления своих основ, так часто погибают в ее аду.
Принцип надежды (выражение Эрнста Блоха) сложно сплавлен с ситуацией безнадежности, точно так же как движение, динамика, становление включены в неподвижные формы, возникают из них и в конечном счете без них невообразимы. Принцип надежды в этой книге идентифицируется с раем, который, в отличие от ада, недостижим и даже невообразим, но который по какой-то неведомой причине понуждает людей отправляться в путь на поиски этого непредставимого и недостижимого. Авторитетный российский историк Средних веков (а эта эпоха находится в центре моего интереса) Ольга Добиаш-Рождественская написала несколько книг о средневековых паломничествах и Крестовых походах, которые она считала формой паломничества. Для меня значимо то, что она занялась Крестовыми походами прямо накануне Первой мировой войны, а свои книги об этом опубликовала вскоре после революции (между 1918 и 1925 годами). Мне представляется, что ее концепция этого явления непосредственно связана с адом войны и революции. Добиаш-Рождественская видит в самом облике Средних веков установку на неизменность (в том числе и видения мира). Вот как она начинает свою книгу «Западные паломничества в Средние века»:
Средневековье любило глядеться в образы неподвижности и узнавать в них себя. Его церковь построена на камне. Его города стиснуты каменными твердынями, замки пугают тяжелыми башнями. Рыцари одеты в стальную броню, а женщины в негнущуюся парчу. Крепостные деревни скованы цепью феодального закона; и строгая социальная иерархия, полагая одни общественные слои в подножие другим, отнимает всякую надежду у «камней основания» на какое-либо движение, могущее переместить взаимные отношения «несущих и несомых»[5 - Добиаш-Рождественская О. А. Западные паломничества в Средние века. Пг.: Брокгауз-Ефрон, 1924. С. 7.].
Добиаш-Рождественская объясняет нам, что эта внешняя незыблемость была лишь гипертрофированной реакцией на нарастающий социальный и интеллектуальный динамизм общества, своего рода «реконструкцией» воображаемых Средних веков до всяких романтических фантазий, о которых упоминает Блох:
…образы неподвижности создавались как раз по противоположности бунтующему хаосу или творческому· движению бытия. Непонятая беспорядочность непрерывно возникавшего нового заставляла систематические умы, – а их, на беду Средневековья, было слишком много в той среде, которой выпало на долю сознавать и отражать процесс истории, – настойчиво и упорно искать формулу вечного порядка и втискивать ее в расплавленную массу проходящего. Оно не сохраняло отпечатка в действительности, но под этой формулой оно было зарегистрировано в отражении[6 - Добиаш-Рождественская О. А. Западные паломничества в Средние века. С. 8.].
Для Добиаш-Рождественской незыблемость замков и железо доспехов – это своего рода декорация, которой эпоха скрывает от собой себя бурлящее в ней неспокойствие, выражающееся в бесконечных потоках паломников и крестоносцев. Но сегодня можно внести в эту картину поправку. Не будь этой неподвижности декора, сама внутренняя динамика человеческого существования не могла бы обрести выражение. Неподвижность структуры делает возможным это внутреннее движение. В этом смысле Крестовые походы особенно поучительны. Их двигателем была жажда спасения, то есть именно жажда рая. Но сама номадическая военная машина походов воплощала в себе все что угодно, кроме райского блаженства. По существу, она была настоящим воплощением ада на земле. В каком-то смысле можно сказать, что крестоносцы создают тот ад, из которого они непрерывно бегут к раю.
Знаменитый летописец Первого крестового похода Фульхерий Шартрский рассказывает об «аде» этого похода, о том, как часто крестоносцев
расчленяют, распинают на крестах, с них сдирают кожу живьем, расстреливают из луков, рубят на куски и подвергают всевозможным мучениям. Но ни угрозами, ни разными посулами их не сломить. Более того, когда меч уже в руках убийцы, многие из наших решают принять смерть ради любви Христа. Сколько же тысяч мучеников почило в этом походе блаженной смертью! И кто может быть настолько черств сердцем, чтобы, услышав об этих деяниях Божьих, не проникнуться глубоким состраданием и не излиться в похвалах Богу?[7 - Фульхерий Шартрский. Иерусалимская история (Пролог, 3–4). СПб.: Евразия, 2020. С. 42.]
Неизбежно возникает вопрос о том, каков смысл этого движения к блаженству, к трансцендентному, к Единому, к абсолюту через описанные Фульхерием пытки и муки? Сегодняшнему человеку невольно в голову приходит понятие опыта, телесного и внутреннего травматического проживания пути. Трансцендентное тут задается не в категориях внятных и определенных схем (замка на горе), но в виде чего-то неопределенного, чей смысл может быть постигнут через максимальную полноту опыта. Путь, движение из ада в рай проходит через опыт. И опыт этот во имя достижения своей полноты призван быть адским.
Опыт ада, однако, имеет странную и неожиданную конфигурацию. Вальтер Беньямин неоднократно писал о том, что участие в войне привело не к обогащению, а к оскудению опыта. Это крайнее оскудение хорошо видно в медиа времен войны. Беньямин писал:
…совершенно ясно, что опыт упал в цене, и это у поколения, которому в 1914–1918 годах пришлось пережить самый чудовищный опыт мировой истории. Возможно, это не так удивительно, как кажется. Разве тогда не пришлось констатировать, что люди, вернувшиеся с войны, как будто онемели? Стали не богаче, а беднее косвенным опытом. То, что позднее, десять лет спустя, вылилось потоком из книг о войне, было чем угодно, только не опытом, стремящимся из уст к ушам. Нет, это не было странно. Потому что никогда еще так основательно не разоблачалась ложь воспоминаний, как ложь воспоминаний о стратегии через позиционную войну, об экономике через инфляцию, телесных – через голод и нравственных – через властителей. Поколение, добиравшееся в школу на конке, стояло под открытым небом среди ландшафта, в котором ничего не изменилось, кроме облаков, а в центре в силовом поле разрушительных потоков и взрывов – крошечное хрупкое человеческое тело[8 - Беньямин В. Опыт и скудость // Беньямин В. Озарения. М.: Мартис, 2000. С. 263–264.].
Это оскудение опыта у Беньямина в действительности оказывается лишь разрушением всех тех «сущностей» и понятий, которые культура сформировала и превратила в средневековые твердыни. Опыт понимается как нечто передающееся из прошлого в будущее, от поколения к поколению. Такого рода «опыт» вдруг радикально обесценился и перестал совпадать с опытом непосредственного участия в войне. Рухнула ложь о войне, об экономике и власти. В итоге в голом ландшафте под небом осталась стоять лишь маленькая человеческая фигурка, лишенная социального статуса, культуры и даже ощущения собственного «Я». Такого рода оскудение опыта средневековыми монахами-пустынниками будет описываться как освобождение от видимостей, из которых соткано мирское. Оскудение опыта ведет к возможности открытия чего-то важного – и, соответственно, к опыту совершенно иного, непередаваемого типа. Но это оскудение самым парадоксальным образом наступает в результате крайней несоизмеримости опыта ада с миром понятий и представлений. Неслучайно Беньямин писал о внезапной немоте, охватившей вернувшихся с фронта солдат:
Мы все реже встречаемся с людьми, которые в состоянии что-то толком рассказывать. Замешательство все чаще овладевает собравшейся компанией, если вдруг кто-то попросит кого-нибудь рассказать историю. Все обстоит так, словно у нас отняли наследный дар, казавшийся неотчуждаемым, надежнейшим из надежных, – дар обмениваться жизненным опытом. Причина этого явления очевидна: акции опыта сильно упали в цене[9 - Беньямин В. Рассказчик // Беньямин В. Маски времени. СПб.: Symposium, 2004. С. 384.].
В цене вырос непередаваемый опыт.
Карл Ясперс связал такой не передаваемый другому опыт с тем, что он назвал «пограничной ситуацией» (Grenzsituation), в которой человек сталкивается со страданием и смертью. Ситуация на фронте полностью соответствует этой ситуации Ясперса. Эта ситуация изолирует нас от мира и похожа на стену. Но именно на такие ситуации мы реагируем «становлением возможной в нас экзистенции; мы становимся самими собой, когда с открытыми глазами вступаем в пограничные ситуации»[10 - Ясперс К. Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции. М.: Канон+; Реабилитация, 2012. С. 206.]. В этом росте бытия в человеке граница, дающая название ситуации, начинает играть важную роль предела: «Граница вступает в свою истинную функцию – быть еще имманентной и, однако, указывать уже на трансценденцию»[11 - Там же.]. Это открытие трансцендентности в конце концов оказывается и открытием мира, при этом на новых основаниях, далеко выходящих за рамки любознательности и чистого знания:
Мир есть для меня не только предмет знания, которое я вправе оставить безразличным для себя, но в мире есть присущее мне бытие, в котором ситуация потрясает меня[12 - Там же.].
Это преображение абстрактного знания в опыт и есть то, что происходит во время войны, когда опыт обогащает меня экзистенциально и делает неспособным передавать его другим.
Михаил Бениаминович Ямпольский
Эта книга рассказывает о попытках людей найти путь к раю, то есть к неведомому, невообразимому, трансцендентному. Стремление к неведомому и недостижимому в какой-то момент начинает определять антропологию человека, вступающего в мир, наделенный развитием, то есть историей. Ямпольский рассматривает разные варианты этого экзистенциального пути, который полагает в качестве цели в одних случаях рай земной (то есть условно достижимый), а в иных – рай небесный, по определению недосягаемый. Разные представления о рае предполагают разные стратегии его достижения – от путешествия души в сновидениях, ее вознесения после смерти или в мистическом экстазе до паломничества, крестового похода или мореплавания. Стремление к трансцендентному определяет не только теологию, но даже отношение к текстам и уровням их значения, когда переход от буквального смысла к аллегорическому начинает приравниваться к восходящему движению души. Эта сосредоточенность на пути в значительной степени определяет и общую модель мира – космографию. Книга охватывает время от поздней Античности до Возрождения и уделяет особое внимание Данте. Исторический материал, однако, нужен автору и для того, чтобы напомнить читателю, что человек – не просто обитатель места, но по определению homo viator, человек странствующий. Такое напоминание приобретает особое значение в нынешнюю эпоху миграций и насильственной утраты домашнего очага.
Михаил Ямпольский
Книга рая: путь. Морфология непостижимого и недосягаемого
Михаил Ямпольский
КНИГА РАЯ: ПУТЬ
Морфология непостижимого и недосягаемого
Новое литературное обозрение
Москва
2024
УДК 130.3
ББК 87.524
Я57
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Научное приложение. Вып. CCLXIV
Михаил Ямпольский
Книга рая: путь. Морфология непостижимого и недосягаемого / Михаил Ямпольский. – М.: Новое литературное обозрение, 2024.
Эта книга рассказывает о попытках людей найти путь к раю, то есть к неведомому, невообразимому, трансцендентному. Стремление к неведомому и недостижимому в какой-то момент начинает определять антропологию человека, вступающего в мир, наделенный развитием, то есть историей. Ямпольский рассматривает разные варианты этого экзистенциального пути, который полагает в качестве цели в одних случаях рай земной (то есть условно достижимый), а в иных – рай небесный, по определению недосягаемый. Разные представления о рае предполагают разные стратегии его достижения – от путешествия души в сновидениях, ее вознесения после смерти или в мистическом экстазе до паломничества, крестового похода или мореплавания. Стремление к трансцендентному определяет не только теологию, но даже отношение к текстам и уровням их значения, когда переход от буквального смысла к аллегорическому начинает приравниваться к восходящему движению души. Эта сосредоточенность на пути в значительной степени определяет и общую модель мира – космографию. Книга охватывает время от поздней Античности до Возрождения и уделяет особое внимание Данте. Исторический материал, однако, нужен автору и для того, чтобы напомнить читателю, что человек – не просто обитатель места, но по определению homo viator, человек странствующий. Такое напоминание приобретает особое значение в нынешнюю эпоху миграций и насильственной утраты домашнего очага.
В оформлении обложки использованы гравюры Густава Доре к «Божественной комедии» Данте Алигьери.
ISBN 978-5-4448-2387-3
© М. Ямпольский, 2024
© С. Тихонов, дизайн обложки, 2024
© OOO «Новое литературное обозрение», 2024
Посвящается Ирине Сандомирской, в чьем гостеприимном доме была написана эта книга
ВСТУПЛЕНИЕ
1. Ад как начало пути
Мы живем в мире, где ад всегда находится неподалеку. По воле одного человека или группы людей он всегда готов разверзнуться у нас под ногами, будь то в форме войны или в форме террора. Впрочем, одно редко обходится без другого. В 2006 году папа Бенедикт XVI «отменил» чистилище как часть католической догмы, объяснив это тем, что чистилище – это «не более чем гипотеза». Но понтифику и в голову не пришло отменить ад как простую гипотезу. Рейчел Фалконер показала, что многие политические события сегодняшнего мира освещаются в медиа – и, следовательно, воспринимаются людьми – в тех категориях, которые исторически закрепились за описаниями ада. Она называет такие описания katabasis (от греческого ????????? – «сошествие в ад»), или «адскими»[1 - Falconer R. Hell in our Time: Dantean Descent and the Twenty-first Century «War on Terror» // Hell and its Afterlife. Historical and Contemporary Perspectives / Eds. I. Moreira, M. Toscano. Farnham; Burlington: Ashgate, 2010. Р. 217–236.].
Но ад обладает странным свойством порождать надежду. Надежда возникает в аду как едва ли не единственный способ выжить. Ад всегда стремится закрепиться надолго, война должна тянуться без видимого конца. Неслучайно лоскутная идеология ада всегда традиционализм – сохранение отжившего, как будто мертвечина не имеет жизненного срока и будет тянуться вечно. Ад, однако, часто порождает утопию, главный смысл которой показать, что «темные времена» не вечны, как им самим хочется верить. Бруно Беттельгейм описывает, как пленники лагерей смерти по мере пребывания в лагере все чаще и глубже погружались в дневные грезы и все меньше жили в мрачной реальности:
…надежды и ожидания старых заключенных часто принимали форму эсхатологических или мессианских надежд; это согласовывалось с ожиданием того, что только такого рода событие может покончить с миром и освободить их[2 - Bettelheim B. Individual and Mass Behavior in Extreme Situations // The Journal of Abnormal and Social Psychology. October 1943. Vol. 38. № 4. Р. 443.].
Именно страшная война парадоксальным образом привела в начале прошлого века к взрыву утопического сознания (к которому можно отнести и марксизм, несмотря на трагические последствия его триумфа). Эрнст Блох в книге, написанной в 1918 году, являвшейся прямой реакцией на окопный ад и названной им «Дух утопии», писал о погружении Германии в преисподнюю в том числе и в таких выражениях:
…университеты воистину стали духом погребальных курганов, наполненных вонью разложения и обездвиженным мраком. Те же, что кажутся совершенно воспрявшими, постоянно воспроизводят звучавшее в ушах реакционеров столетней давности: лозунги о родной почве, традиционализм Отечества и тот склеротический романтизм, который забыл о крестьянской войне и видит только рыцарские замки, возвышающиеся в зачарованных лунных ночах[3 - Bloch E. The Spirit of Utopia. Stanford: Stanford University Press, 2000. Р. 2.].
Ад постоянно рядится в одежду реконструкторов и реставраторов. И главной целью такого маскарада является приостановка времени, в том числе и времени правления того или иного диктатора. Все это призвано создать ощущение, что из ада нельзя выйти. Его обитатели обречены на постоянное повторение того же самого. Но надежда проникает в ад не только как психологическая реакция на безысходность. Дело в том, что война (это последнее прибежище деспотического государства) несет в самой себе сильнейший импульс дестабилизации и обновления. Неслучайно, конечно, Делез и Гваттари связали «машину войны» с номадологией, то есть с деструктивной дестабилизацией повторения одного и того же. Вот как они характеризовали отношения войны и деспотического «параноидального» государственного аппарата:
Заметим, что война не включена в этот аппарат. Либо Государство располагает насилием, не проходящим через войну, – вместо военных оно использует полицейских и тюремщиков, у него нет вооружения, и оно в нем не нуждается, Государство действует посредством немедленного магического захвата, оно «хватает» и «связывает», препятствуя любой битве. Либо Государство обретает армию, но так, что последняя предполагает юридическую интеграцию войны и организацию военной функции. Что же касается самой машины войны, то она, похоже, вовсе не сводится к аппарату Государства, оставаясь по ту сторону его суверенитета и являясь изначальной по отношению к его закону – она приходит откуда-то еще. Индра – воинственный бог <…> разрывает узы, так же как предает договор. Он показывает, что furor противостоит мере, скорость – тяжести, тайное – публичному, мощь – суверенитету, машина – аппарату. Он свидетельствует о другой справедливости, иногда о непонятной жестокости, но иногда и о неведомой жалости (ибо он разрывает связи…). Он свидетельствует, прежде всего, о других отношениях с женщинами, с животными, ибо видит любую вещь в отношениях становления…[4 - Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург; М.: У-Фактория; Астрель, 2010. С. 588–589.]
Номадизм усматривает становление там, где деспотия стремится утвердить неизменные формы. Именно поэтому тирании, делающие ставку на войну как способ укрепления своих основ, так часто погибают в ее аду.
Принцип надежды (выражение Эрнста Блоха) сложно сплавлен с ситуацией безнадежности, точно так же как движение, динамика, становление включены в неподвижные формы, возникают из них и в конечном счете без них невообразимы. Принцип надежды в этой книге идентифицируется с раем, который, в отличие от ада, недостижим и даже невообразим, но который по какой-то неведомой причине понуждает людей отправляться в путь на поиски этого непредставимого и недостижимого. Авторитетный российский историк Средних веков (а эта эпоха находится в центре моего интереса) Ольга Добиаш-Рождественская написала несколько книг о средневековых паломничествах и Крестовых походах, которые она считала формой паломничества. Для меня значимо то, что она занялась Крестовыми походами прямо накануне Первой мировой войны, а свои книги об этом опубликовала вскоре после революции (между 1918 и 1925 годами). Мне представляется, что ее концепция этого явления непосредственно связана с адом войны и революции. Добиаш-Рождественская видит в самом облике Средних веков установку на неизменность (в том числе и видения мира). Вот как она начинает свою книгу «Западные паломничества в Средние века»:
Средневековье любило глядеться в образы неподвижности и узнавать в них себя. Его церковь построена на камне. Его города стиснуты каменными твердынями, замки пугают тяжелыми башнями. Рыцари одеты в стальную броню, а женщины в негнущуюся парчу. Крепостные деревни скованы цепью феодального закона; и строгая социальная иерархия, полагая одни общественные слои в подножие другим, отнимает всякую надежду у «камней основания» на какое-либо движение, могущее переместить взаимные отношения «несущих и несомых»[5 - Добиаш-Рождественская О. А. Западные паломничества в Средние века. Пг.: Брокгауз-Ефрон, 1924. С. 7.].
Добиаш-Рождественская объясняет нам, что эта внешняя незыблемость была лишь гипертрофированной реакцией на нарастающий социальный и интеллектуальный динамизм общества, своего рода «реконструкцией» воображаемых Средних веков до всяких романтических фантазий, о которых упоминает Блох:
…образы неподвижности создавались как раз по противоположности бунтующему хаосу или творческому· движению бытия. Непонятая беспорядочность непрерывно возникавшего нового заставляла систематические умы, – а их, на беду Средневековья, было слишком много в той среде, которой выпало на долю сознавать и отражать процесс истории, – настойчиво и упорно искать формулу вечного порядка и втискивать ее в расплавленную массу проходящего. Оно не сохраняло отпечатка в действительности, но под этой формулой оно было зарегистрировано в отражении[6 - Добиаш-Рождественская О. А. Западные паломничества в Средние века. С. 8.].
Для Добиаш-Рождественской незыблемость замков и железо доспехов – это своего рода декорация, которой эпоха скрывает от собой себя бурлящее в ней неспокойствие, выражающееся в бесконечных потоках паломников и крестоносцев. Но сегодня можно внести в эту картину поправку. Не будь этой неподвижности декора, сама внутренняя динамика человеческого существования не могла бы обрести выражение. Неподвижность структуры делает возможным это внутреннее движение. В этом смысле Крестовые походы особенно поучительны. Их двигателем была жажда спасения, то есть именно жажда рая. Но сама номадическая военная машина походов воплощала в себе все что угодно, кроме райского блаженства. По существу, она была настоящим воплощением ада на земле. В каком-то смысле можно сказать, что крестоносцы создают тот ад, из которого они непрерывно бегут к раю.
Знаменитый летописец Первого крестового похода Фульхерий Шартрский рассказывает об «аде» этого похода, о том, как часто крестоносцев
расчленяют, распинают на крестах, с них сдирают кожу живьем, расстреливают из луков, рубят на куски и подвергают всевозможным мучениям. Но ни угрозами, ни разными посулами их не сломить. Более того, когда меч уже в руках убийцы, многие из наших решают принять смерть ради любви Христа. Сколько же тысяч мучеников почило в этом походе блаженной смертью! И кто может быть настолько черств сердцем, чтобы, услышав об этих деяниях Божьих, не проникнуться глубоким состраданием и не излиться в похвалах Богу?[7 - Фульхерий Шартрский. Иерусалимская история (Пролог, 3–4). СПб.: Евразия, 2020. С. 42.]
Неизбежно возникает вопрос о том, каков смысл этого движения к блаженству, к трансцендентному, к Единому, к абсолюту через описанные Фульхерием пытки и муки? Сегодняшнему человеку невольно в голову приходит понятие опыта, телесного и внутреннего травматического проживания пути. Трансцендентное тут задается не в категориях внятных и определенных схем (замка на горе), но в виде чего-то неопределенного, чей смысл может быть постигнут через максимальную полноту опыта. Путь, движение из ада в рай проходит через опыт. И опыт этот во имя достижения своей полноты призван быть адским.
Опыт ада, однако, имеет странную и неожиданную конфигурацию. Вальтер Беньямин неоднократно писал о том, что участие в войне привело не к обогащению, а к оскудению опыта. Это крайнее оскудение хорошо видно в медиа времен войны. Беньямин писал:
…совершенно ясно, что опыт упал в цене, и это у поколения, которому в 1914–1918 годах пришлось пережить самый чудовищный опыт мировой истории. Возможно, это не так удивительно, как кажется. Разве тогда не пришлось констатировать, что люди, вернувшиеся с войны, как будто онемели? Стали не богаче, а беднее косвенным опытом. То, что позднее, десять лет спустя, вылилось потоком из книг о войне, было чем угодно, только не опытом, стремящимся из уст к ушам. Нет, это не было странно. Потому что никогда еще так основательно не разоблачалась ложь воспоминаний, как ложь воспоминаний о стратегии через позиционную войну, об экономике через инфляцию, телесных – через голод и нравственных – через властителей. Поколение, добиравшееся в школу на конке, стояло под открытым небом среди ландшафта, в котором ничего не изменилось, кроме облаков, а в центре в силовом поле разрушительных потоков и взрывов – крошечное хрупкое человеческое тело[8 - Беньямин В. Опыт и скудость // Беньямин В. Озарения. М.: Мартис, 2000. С. 263–264.].
Это оскудение опыта у Беньямина в действительности оказывается лишь разрушением всех тех «сущностей» и понятий, которые культура сформировала и превратила в средневековые твердыни. Опыт понимается как нечто передающееся из прошлого в будущее, от поколения к поколению. Такого рода «опыт» вдруг радикально обесценился и перестал совпадать с опытом непосредственного участия в войне. Рухнула ложь о войне, об экономике и власти. В итоге в голом ландшафте под небом осталась стоять лишь маленькая человеческая фигурка, лишенная социального статуса, культуры и даже ощущения собственного «Я». Такого рода оскудение опыта средневековыми монахами-пустынниками будет описываться как освобождение от видимостей, из которых соткано мирское. Оскудение опыта ведет к возможности открытия чего-то важного – и, соответственно, к опыту совершенно иного, непередаваемого типа. Но это оскудение самым парадоксальным образом наступает в результате крайней несоизмеримости опыта ада с миром понятий и представлений. Неслучайно Беньямин писал о внезапной немоте, охватившей вернувшихся с фронта солдат:
Мы все реже встречаемся с людьми, которые в состоянии что-то толком рассказывать. Замешательство все чаще овладевает собравшейся компанией, если вдруг кто-то попросит кого-нибудь рассказать историю. Все обстоит так, словно у нас отняли наследный дар, казавшийся неотчуждаемым, надежнейшим из надежных, – дар обмениваться жизненным опытом. Причина этого явления очевидна: акции опыта сильно упали в цене[9 - Беньямин В. Рассказчик // Беньямин В. Маски времени. СПб.: Symposium, 2004. С. 384.].
В цене вырос непередаваемый опыт.
Карл Ясперс связал такой не передаваемый другому опыт с тем, что он назвал «пограничной ситуацией» (Grenzsituation), в которой человек сталкивается со страданием и смертью. Ситуация на фронте полностью соответствует этой ситуации Ясперса. Эта ситуация изолирует нас от мира и похожа на стену. Но именно на такие ситуации мы реагируем «становлением возможной в нас экзистенции; мы становимся самими собой, когда с открытыми глазами вступаем в пограничные ситуации»[10 - Ясперс К. Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции. М.: Канон+; Реабилитация, 2012. С. 206.]. В этом росте бытия в человеке граница, дающая название ситуации, начинает играть важную роль предела: «Граница вступает в свою истинную функцию – быть еще имманентной и, однако, указывать уже на трансценденцию»[11 - Там же.]. Это открытие трансцендентности в конце концов оказывается и открытием мира, при этом на новых основаниях, далеко выходящих за рамки любознательности и чистого знания:
Мир есть для меня не только предмет знания, которое я вправе оставить безразличным для себя, но в мире есть присущее мне бытие, в котором ситуация потрясает меня[12 - Там же.].
Это преображение абстрактного знания в опыт и есть то, что происходит во время войны, когда опыт обогащает меня экзистенциально и делает неспособным передавать его другим.