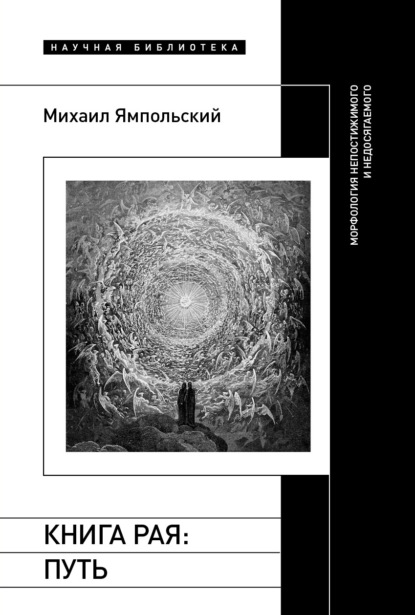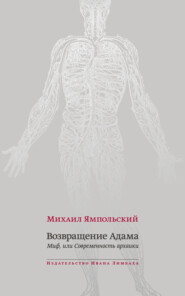По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Книга рая. Путь. Морфология непостижимого и недосягаемого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В спекулятивном мышлении он возносится до самого бытия, которое постигается без раздвоения, в исчезновении субъекта и объекта, в слиянии противоречий. То, что в высочайшем порыве познается как возвращение к самому себе в бытии или как unio mystica, как единение с божеством или как ощущение себя орудием воли Божьей, в объективирующем, спекулятивном мышлении выражается таким образом, что допускает двойственное или даже ложное истолкование[109 - Там же. С. 34.].
Мистическое слияние со всеобъемлющим, с бытием ведет одновременно к исчезновению различия между субъектом и объектом, и при этом на уровне спекулятивного философского мышления – к объективации непостижимого, и в итоге – к ложному толкованию. Эту ситуацию непримиримой двойственности можно определить в качестве неразрешимого противоречия между мирским и трансцендентным, создающим колоссальное цивилизационное напряжение, вызывающим новое чувство времени, истории, как противоречивого движения к потустороннему, являющему себя в эсхатологической перспективе. Ясперс пишет:
Прежде духовное состояние людей было сравнительно неизменным, в нем, несмотря на катастрофы, будучи ограниченным по своему горизонту, все повторялось в незаметном и очень медленном духовном течении, которое не осознавалось и поэтому не познавалось. Теперь же, напротив, напряжение растет и становится основой бурного, стремительного движения[110 - Ясперс К. Смысл и назначение истории. С. 35.].
Это и есть осевое время.
До осевого времени представление о потустороннем с поправками воспроизводили представления о земном мире. Но по мере увеличения разрыва между мирским и трансцендентным возникла необходимость наведения мостов между этими двумя абсолютно несводимыми друг к другу мирами. Этим занимается специальная группа священников, отличающихся от колдунов, шаманов и прочих специалистов потустороннего в ранних религиях. Священники нового типа предполагают определенную рациональность и, как правило, работают с письменными текстами. Макс Вебер замечал по этому поводу:
Священство систематизирует содержание пророчества или священной традиции, казуистически-рационально расчленяя и приспособляя его к мышлению и жизненным привычкам его собственного социального слоя, а также покорных ему мирян. Практически важным в процессе формирования книжной религии является переход в подготовке священнослужителей от древнейшей чисто харизматической модели к литературному образованию…[111 - Вебер М. Хозяйство и общество, т. II. Общности. М.: ИД Высшей школы экономики, 2017. С. 132. Описание Вебером «работы священников» Пьер Бурдье считал одним из важнейших достижений Вебера в области социологии религии. См.: Bourdieu P. Une interprеtation de la thеorie de la religion selon Max Weber // European Journal of Sociology / Archives Europеennes de Sociologie. May 1971. Vol. 12. № 1. Р. 3.]
Главным связующим звеном мирского и потустороннего Вебер считал идею спасения души, которое произойдет после смерти, но должно подготавливаться в земном существовании:
Нас стремление к спасению, в чем бы оно ни состояло, интересует в той мере, в какой оно влияет на практическое поведение в жизни. Такие позитивные посюсторонние черты оно обретает прежде всего в силу особого религиозно детерминированного образа жизни, определяемого неким центральным смыслом или целью, благодаря чему из религиозных мотивов складывается система практического поведения, ориентированного на единые ценности. Цель и смысл такой системы могут быть целиком посюсторонними или хотя бы отчасти таковыми[112 - Вебер М. Указ. соч. С. 187–188.].
Это воздействие непостижимого и трансцендентного на практику земного существования приближает священников к иерархии земной власти, способной влиять на жизнь людей и по-своему ее организовывать. И это влияние строится на рациональной способности установления связей между случайностью, хаотичностью и даже абсурдностью земной жизни и универсальной рациональностью трансцендентного. В центре тут оказывается напряжение между полюсами смертности и бессмертия.
Вольфганг Шлюхтер видит в этой ситуации зародыш европейской науки Нового времени, так как тут уже формулируются набор ограничительных условий и правила оценки рисков, детерминирующих диапазон действий того, кто принимает решения. Как замечает Шлюхтер,
в основном существуют два риска: всякое решение влечет за собой следствия для индивида в плане «спасения его души», и оно же имеет последствия для социальной среды[113 - Roth G., Schluchter W. Max Weber’s Vision of History. Ethics and Methods. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1979. Р. 83.].
Шмуэль Эйзенштадт считает, что разрыв между мирским и трансцендентным детерминировал развитие всей современной цивилизации. Прежде всего, он определил наличие различных «миров знания», таких как философия, религия, метафизика, наука и т. д. Эта множественность сфер знания привела к разным типам классифицирующих схем и возникновению «вторичных миров познания» (second-order worlds of knowledge). И в этой множественности укоренен исток «того, что обычно называется интеллектуальной историей человечества»[114 - Eisenstadt Sh. N. The Axial Age: the Emergence of Transcendental Visions and the Rise of Clerics // Archives Europеennes de Sociologie. 1982. Vol. 23. № 2. Р. 300. Эйзенштадт называет напряжение между мирским и трансцендентным напряжением между космическим и социальным и так очерчивает особую группу относящихся к этому проблем, позволяющих понимать общественную эволюцию человечества: «…группа проблем в кругу космической проблематики человеческого бытия сосредоточена на: 1) взаимосвязи между космическим и социальным (включая политику и экономику) порядками, их относительной обособленности и автономии и их взаимной обусловленности; 2) степени и природе потенциальной напряженности между такими порядками; 3) путях преодоления такой напряженности; 4) отношении такого преодоления к преобладающим характеристикам человеческого бытия и к местонахождению центра человеческого спасения. В эту группу проблем входит также природа доступа различных социальных субъектов к космическому и социальному порядкам, их отношение к основному содержанию и свойствам последних – прежде всего то, в какой степени индивиды и различные группы определяются и воспринимаются как имеющие прямой самостоятельный доступ к главным атрибутам этих порядков, в противоположность таким атрибутам, что доступны только некоторым очень специфическим группам или категориям субъектов, действующим в качестве посредников для других групп» (Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. М.: Аспект Пресс, 1999. С. 71).].
Но еще большее значение этот разрыв с трансцендентным имел для структурирования общества, например установления различий между центром и периферией и формирования нового типа политической власти. Эйзенштадт видит влияние этого разрыва на возникновение социальных стратификаций и иерархий, которые в той или иной степени воспроизводили иерархии близости к трансцендентному и удаленности от него. Меня, однако, в данном случае больше интересует не столько социальное, сколько символическое, философское и культурное влияние возникшего двоемирия. В этом контексте интересно вспомнить Эрика Фегелина.
Фегелин, развивший идеи Ясперса, утверждал, что история складывается не из последовательности деяний, растянутых во времени, но исключительно «участием человека в потоке божественного присутствия, имеющем эсхатологическое направление». Именно трансцендентное, божественное, по мнению Фегелина, порождает «знание человеческой экзистенции в Промежутке божеского-человеческого, в Платоновом метаксисе (metaxy), так же как и язык символов, артикулирующих это знание»[115 - Voegelin E. The Collected Works, v. 17. Order and History, v. IV. The Ecumenic Age. Columbia & London, University of Missouri Press, 2000. Р. 50.]. Метаксис (??????) у Фегелина – особый термин, которым он обозначает положение человека между двумя полюсами, например конечного и бесконечного, между мирским и потусторонним[116 - См.: Duraj J. The Role of Metaxy in the Political Philosophy of Eric Voegelin. New York; Bern; Berlin: Peter Lang, 2021.]. Именно это промежуточное место и определяет язык человеческого познания, сконструированный вокруг символов, принадлежащих видимому и отсылающих к незримому.
Сама идея пребывания человека в промежутке восходит к «Пиру» Платона, где Диотима на просьбу определить природу Эрота объясняет:
– Как мы уже выяснили, нечто среднее между бессмертным и смертным.
– Кто же он, Диотима?
– Великий гений, Сократ. Ведь все гении представляют собой нечто среднее между богом и смертным…[117 - Платон. Пир (202е) // Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 2. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета; Изд-во Олега Абышко, 2007. С. 135.]
Фегелин видит во множестве греческих героев такое колебание между противоположными полюсами – между богами и смертными и т. д. Применительно же к познанию понятие метаксиса использовано Платоном в «Государстве», где Сократ объясняет, что наше знание (episteme) относится к бытию, а мнение (doxa) – к множественности, в которой проявляются идеи. Этот объект мнения представлен в разнообразии чувственного мира, а потому не может полагаться небытием. Соответственно, мы имеем дело с областью метаксиса, расположенной между бытием и небытием. Эту промежуточную область Платон называет to planeton, как переводит Фегелин: «…то, что блуждает между бытием и небытием»[118 - Voegelin E. The Collected Works, v. 16. Order and History, v. III. Plato and Aristotle. Р. 121. Фегелин замечает, что, создавая серию on (бытие), me on (небытие), planeton, Платон каламбурил, так что «следуя за этим намерением, можно понять planeton как „бытие“, блуждающее, бродящее между истинным бытием и не-бытием» – Ibid.]: «…то, что колеблется в этом промежутке, улавливается промежуточной способностью»[119 - Платон. Государство (479d) // Платон. Соч.: В 4 т. Т. 3, ч. 1. СПб.: Изд-во СПбГУ; Изд-во Олега Абышко, 2007. С. 308. Чуть выше Сократ разъясняет: «Как мы уже говорили раньше, если обнаружится нечто существующее и вместе с тем не существующее, место ему будет посредине между чистым бытием и полнейшим небытием, и направлено на него будет не знание, а также и не незнание, но опять-таки нечто такое, что окажется посредине между незнанием и знанием» (Там же (478d), С. 306).].
Эта область промежутка существует в состоянии постоянного напряжения между бытием и небытием. В заключительном, пятом, томе фундаментального труда «Порядок и история» «Поиски порядка» Фегелин пытается набросать очертания общей теории культуры, возникающей в этом промежутке метаксиса. Культура, по мнению Фегелина, появляется в результате непрекращающихся попыток связать посюстороннее, случайное, множественное с потусторонним – всеобъемлющим, единым, лежащим за границами нашего непосредственного восприятия. И эти бесконечные попытки метаксиса детерминируют формы и язык «блуждания между бытием и небытием».
Фегелин пытается понять ситуацию метаксиса через анализ динамического комплекса «сознание – реальность – язык». Все три компонента этого комплекса тесно связаны и, можно даже сказать, не существуют отдельно друг от друга. Сознание в этом комплексе само испытывает трансформации одновременно с изменениями в статусе реальности и языка. Трансформация выражается в изменении «рефлективной дистанции». На самом «низком» уровне сознание ориентируется на некую внешнюю по отношению к нему вещь. Такой тип рефлексивности Фегелин называет интенциональностью. Интенциональность превращает объект, на который она направлена, во внешнюю вещь. При этом возможна и другая форма сознания, связанная с опытом погруженности во внешний мир, включенности в него. В таком случае внешняя реальность перестает быть объектом, но как бы становится «субъектом» и занимает место «предикативного события». Сознание же переходит из режима интенциональности в режим просветленности (luminosity). Просветленность – это режим переживания участия во всеобъемлющем. Такой переход затрагивает не только структуру сознания, но и статус реальности, меняющийся с онтического на онтологический. Фегелин говорит о «вещной реальности» (thing-reality) и «это-реальности» (It-reality). Первая, по мнению Фегелина, связана с сознанием, воплощенном в теле, то есть с локализованностью. Вторая «является не объектом сознания, но чем-то проявляющимся как событие участия между партнерами в сообществе бытия»[120 - Voegelin E. The Collected Works, v. 18. Order and History, v. V. In Search of Order. Р. 29.]. Невольно, конечно, приходит на ум со-бытие Хайдеггера и Нанси. Но при смене режима сознания и реальности меняется и статус языка. Интенциональность в языковом смысле опирается на понятия, которые затем станут основой науки. Понятия – это языковые формы сознания объектности мира. Просветленность выражается в символах. Фегелин пишет:
…символы не являются понятиями, относящимися к существующим в пространстве и времени объектам, они – носители истины о несуществующей реальности[121 - Voegelin E. Immortality: Experience and Symbol // Harvard Theological Review. July 1967. Vol. 60. № 3. Р. 235.].
Символы выражают участие в несуществующей реальности. Но при этом они же и генерируют соответствующее сознание и опыт. Как следствие этого, когда опыт, связанный с символами, утрачивает актуальность, символы деградируют, теряют смысл и умирают. При этом Фегелин указывает на сложность в некоторых случаях различения понятий и символов, на «трудность приписывания этим терминам точного значения»[122 - Voegelin E. The Collected Works, v. 18. Order and History, v. V. In Search of Order. Р. 32.]. Нестабильность этих терминов в значительной степени связана с тем, что вся система находится в состоянии постоянной трансформации, обусловленной движением в сторону трансцендентного и потустороннего. Это движение часто принимает форму квеста и отражается в символических по своей природе нарративах движения и поиска абсолютной истины. Речь идет о нарративах движения от «вещности» к «просветленности». Такой квест сопровождается поисками новых символов, иначе артикулирующих новый опыт трансцендентного порядка. Когда такие символы обретаются, они способны по-своему оформить «начало нового социального поля» и новой конфигурации истории, которая задается «его отношением с другими социальными полями»[123 - Ibid. Р. 39.]. Именно здесь проявляется вся сила метаксиса: «…квест – это вторжение порядка внутрь времени в ответ на вторжение порядка из области, лежащей по ту сторону времени (from the beyond of time)»[124 - Ibid. Р. 42.].
Время артикулируется метаксисом как областью между движением и лишенной времени неподвижностью потустороннего. Божественная трансцендентность понимается как нечто общее для всех вещей, их исток, и она переживается как некое присутствие во всех вещах (parenai), иными словами – как формирующее присутствие (parousia), как безвременность в погруженном во время многообразии. Фегелин прослеживает на примере древнегреческой мысли разные моменты становления понятийного и символического и принципы их глубинной взаимосвязи. Так, например, он показывает, каким образом у Парменида происходит переход от множества вещей – ta eonta – к единственному числу – to eon. Так «бытие», существование как предикат всех вещей, становится «Бытием», которое «не принадлежит ни одной из них»[125 - Ibid. Р. 102.]. На этих примерах можно увидеть, как понятие превращается в символ, а интенциональность – в просветленность. В конце концов это бытие отделяется от времени (оно перестает соотноситься с прошлым или будущим) и превращается в вечное Теперь. Обращаясь к Платону, Фегелин показывает, как парменидовское to eon становится to pan, то есть Всем.
Я коротко остановился на Фегелине, потому что его теория, на мой взгляд, при всех ее недостатках наиболее полно раскрывает проблематику внедрения трансцендентного как источник Истории и истории культуры в частности. Тема символизации, как мне кажется, может быть приложена к загадке возникновения аллегорий, приобретающих всеобъемлющее значение в европейской культуре Средневековья.
8. Апокатастасис
В этой книге речь пойдет о Рае. Рай интересен по многим причинам, но прежде всего потому, что именно он воплощает в себе основные черты трансцендентного, недостижимого и невообразимого. Он является истоком человечества и его конечной целью. По существу, он является символом в самом прямом смысле этого слова. Ад – область наказания грешников – не может претендовать на роль сверхсимвола. Именно поэтому его никогда не локализуют в высших небесных сферах, а чаще всего помещают еще ниже земного. Это область как бы ущербной земной реальности. Именно поэтому его относительно легко вообразить. До нас дошло множество изображений ада (среди прочих, конечно, у Данте), поражающих разработанностью связанного с ним воображения.
Само существование ада нелегко поддавалось осмыслению. Если рай, небеса, воплощали в себе абсолютную вневременную полноту Бытия, к которому стремится мирская множественность, трудно понять место и назначение ада в этом движении к полноте. Эта тема получила развитие в теологии под именем апокатастасиса (?????????????). В Новом Завете это слово встречается лишь один раз, когда в «Деяниях апостолов» (Деян. 3: 21) апостол Петр говорит о том, что Иисус пребудет на небесах до времени воссоединения всего (?????????????? ?????? – restitutionis omnium). Этому высказыванию Петра вторит известное утверждение Павла в Послании к Колоссянам:
…благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное (Кол. 1: 19–20).
Идея апокатастасиса была сформулирована Оригеном, а затем получила развитие у греческих теологов – Григория Нисского и Максима Исповедника. В западном христианстве она была воспринята прежде всего Иоанном Скоттом Эриугеной[126 - Подробную историю идеи апокатастасиса см. в кн.: Ilaria L. E. Ramelli. The Christian Doctrine of Apokatastasis. A Critical Assessment from the New Testament to Eriugena. Leiden; Boston: Brill, 2013.]. Григорий Нисский писал о том, что воскрешение есть не что иное, как возвращение к собственным истокам, то есть, по сути, завершение круга движения времени, восстановление начала:
Дар же воскресения не иное что обещает нам, как восстановление падших в первобытное состояние; ибо сия ожидаемая благодать есть к первоначальной жизни возвращение, изгнанного из рая снова в него вводящее. Посему если жизнь восстановляемых имеет сродство с жизнию Ангелов, то очевидно, что жизнь до преступления была некая ангельская[127 - Григорий Нисский. Об устроении человека (17) // Григорий Нисский. Творения, ч. 1. М.: Тип. В. Готы, 1861. С. 146.].
Рай тут понимается как полный эквивалент первоначальности, истока. Человеческие тела должны вернуться тут к некой первоначальной субстанции, которую Григорий считает ангельской. Апокатастасис у него означает превращение человека в ангела, в котором телесное преобразуется, а греховность заменяется невинностью.
Гораздо более изощренное видение предлагает Иоанн Скотт, который полагает, что конец времен и наступление эсхатона означает не просто возвращение к истокам, но исчезновение различий в восстанавливаемом. В этот момент животные и человек все сливаются в некой общей для них родовой субстанции:
Если все, состоящее из тела и души, принадлежит одному роду, называемому животными, и если все животные существуют как субстанции – так как и человек и лев, и бык, и лошадь имеют одну субстанцию, как в таком случае все виды этого рода обречены на гибель, кроме одного, принадлежащего человеку?[128 - Eriugena. Periphyseon (The Division of Nature) (III, 737с) // Montreal-Dumbarton Oaks, Cahiers d’еtudes mеdiеvales; cahier special n 3. 1987. Р. 374.]
Исчезновение множества, то есть мирской телесности, после грехопадения связанной с грехом и злом, произойдет благодаря воздействию так называемого вечного огня, действие которого уже было описано Блаженным Августином в «О граде Божьем»[129 - «…пройдет образ мира сего через истребление его мировыми огнями, подобно тому, как потоп совершился через наводнение мировыми водами. Итак, в этом, как сказал я, мировом пожаре уничтожатся от огня те свойства тленных стихий, которые соответствовали нашим тленным телам, а сама субстанция получит такие свойства, которые через удивительные изменения окажутся соответствующими телам бессмертным; так что мир, обновившись к лучшему, получит полное приспособление к людям, обновившимся к лучшему и по плоти» (Блаженный Августин. О граде Божьем (кн. XX, гл. XVI). Бл. Августин. Творения, т. 4. СПб.; Киев: Алетейя; УЦИММ-Пресс, 1998. С. 405–406). О влиянии темы вечного огня Августина на теологию Эриугены см.: Петров В. В. Тело и телесность в эсхатологии Иоанна Скотта // Космос и душа: Учения о вселенной и человеке в Античности и в Средние века (исследования и переводы) / Общ. ред. П. П. Гайденко, В. В. Петров. М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 641–652. При всех указаниях на влияние Августина Петров считает, однако, что «беспрецедентен и тезис Иоанна Скотта о том, что после воскресения все восставшие тела людей окажутся в едином вечном огне, в который попадут и праведники и нечестивые» (С. 643).]. Вечный огонь – сжигает. Вечный огонь выжигает все акциденции, связанные с земной телесностью, очищая единую родовую субстанцию сущего. В трактате «О предопределении» Иоанн Скотт преображает идею наказания адским огнем в идею очищения сущности:
…тела всех небогоугодных, то есть извращенных людей и ангелов, будут подвергнуты наказанию вечным огнем, но таким образом, что целостность их субстанции не погибнет, их красота никоим образом не увянет, их природная разумность сохранится; в результате все хорошее в их природе благодаря чудесному упорядочиванию ярко воссияет во имя украшения мироздания, за исключением того счастья, которого они будут лишены, идущего не от природы, а от благодати[130 - Johannes Scotus Eriugena. Treatise on divine predestination (XIII, 3). Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1998. Р. 126.].
В своем основном труде «Перифюсеон» Эриугена разворачивает эту аргументацию еще более полно. Восстановление первичного после воскрешения позволяет обнаружить Единое и непреходящесть того, что остается. Соответственно, исчезает всякая способность меняться и мир трансцендирует измерения пространства и времени, которые исчезают при воссоединении с Единым. Пространства и время сами поглощаются вечностью. Поскольку протяженные вещи исчезают, само пространство исчезает вместе с ними. Это исчезновение пространства и времени имеет одно важное и неожиданное следствие:
Вот почему невозможно, чтобы ад занимал ощутимое и телесное место в мироздании. И ошибаются те, кто, обманутые их воображением, утверждают, что ад находится либо под землей, или в утробе земли, или еще в каком-либо ином земном месте. Они просто не понимают, что сама земля, под которой или внутри которой они размещают ад, должна полностью исчезнуть. А если земля погибнет, то понятно, что ничто под ней или в ней, чему присвоено имя ад, не сможет сохраниться[131 - Eriugena. Periphyseon (The Division of Nature) (V, 971а). Р. 654.].
Таким образом, ад исчезает из мироздания, в котором все соединяется, как это было в самом начале, в единую и недифференцируемую субстанцию. Имя этой субстанции – рай. Ведь именно рай был истоком, к которому вновь приводит апокатастасис. Эуригена описывает финальное восстановление единства на примере солнца, которое наполняет мир светом и распространяет лучи световым конусом, в вершине которого оно располагается. Мы отделены от солнца и живем в зоне тени и темноты. Тень и темнота – это зло и грех, когда же мы начинаем восхождение к солнцу и оставляем позади эту темную зону,
мы вновь превратимся в свет, так как природа добра бесконечно богаче меры зла: и мы вновь достигнем Рая, и того Древа, которое есть Древо Жизни, и Благодати Образа (Божьего), и достоинства Первого Принципа[132 - Ibid (V, 918a). Р. 591.].
Достижение рая приравнивается Эриугеной к достижению «небесной полноты»[133 - См. об этом: Dronke P. The Completenes of Heaven // Envisaging Heaven in the Middle Ages / Ed. by C. Muessig, Ad Putter. Abingdon; New York: Routledge, 2007. Р. 44–56.], за которой нет ничего различимого.
9. Путешествия в мир иной
Апокатастасис знаменует полный разрыв между трансцендентным и мирским. Но помыслить этот разрыв крайне трудно. Длительное время потустороннее сохраняло тесную связь с посюсторонним, как бы просачиваясь из иного мира в мир земной. Разрыв с этой традицией имманентности потустороннего, по мнению исследователей, следует относить примерно к концу VI века. Это время, которое часто описывается как период завершения поздней Античности и начало Средних веков. Поворотный момент, как правило, относят ко времени понтификата папы Григория Великого. Исследовавший этот «разлом» в истории христианства Роберт Маркус указывает на то, что в эпоху поздней Античности церковь мыслилась как община, часть которой пребывала на земле, а часть на небесах. Блаженный Августин однозначно заявлял о церкви:
Тело Христово и члены Его все мы, не мы только, которые здесь находимся, но все вообще, не ныне только жившие, но все праведные, начиная с Авеля праведного, жившие, живущие и имеющие жить до конца века…[134 - Проповеди блаженного Августина (I, 11). Сергиев Посад: Тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1913. С. 9–10.]
Маркус сообщает, что считалось, будто во время таинства причащения небесное сообщество присутствует в церкви, а ангелы парят над ее алтарем и приносят в церковную общину благословение самого Христа. Монастырские хоры считались местом встречи земли и небес, где в определенные моменты можно было перейти из одного мира в другой. Он рассказывает и о том, что из?за присутствия ангелов во время молитв монахам предписывалось не плевать перед собой, чтобы не попасть на невидимого посланника небес. Маркус пишет:
…в Церкви ранних веков святое не было далеким миром, достичь которого можно было только благодаря деятельности посредников. Скорее оно составляло перманентный контекст жизни, постоянно и повсеместно присутствующий и оживлявший общину б?льшую, чем маленькая группа, собравшаяся у алтаря, и готовый ежеминутно явить благословение и силу. Божественное всегда было тут, как мощный электрический заряд, ждущий момента прорваться из облака на землю через церковные проводники молнии – молитву и прочие средства: алтарь, церковное здание, общину или одного из ее членов[135 - Markus R. A. The End of Ancient Christianity. Cambridge, Cambridge University Press, 1990. P. 23.].
Питер Браун, в целом согласный с оценкой Маркуса, также писал о том, что между земным и небесным миром до VII века был режим проницаемости. Ангелы и демоны жили среди людей. А рай, вызывавший мой особый интерес, был до удивительного близко. Все было устроено так, как если бы стена, разделяющая два мира, была, по выражению Брауна, покрыта щелями и трещинами, пропускавшими не только свет, но и запахи. Райские благоухания проникали в земной мир и имели целительные свойства. Например, райские ароматы исходили из дыры в земле по соседству от могилы Феомаста (Theomastus) – забытого епископа V века – и несли с собой целительную силу рая[136 - Brown P. The End of the Ancient Other World: Death and Afterlife between Late Antiquity and the Early Middle Ages. The Tanner Lectures on Human Values. Delivered at Yale University October 23 and 24, 1996. Р. 26–27.].
Григорий Турский повествует об епископе Сальвии из города Альби, который умер и через короткое время ожил, вернувшись в земной мир:
Но когда наступило утро и когда все было готово к торжественному погребению, тело на погребальных носилках начало шевелиться. И вот щеки порозовели, муж, пробудившись как бы от глубокого сна, очнулся, открыл глаза…[137 - Григорий Турский. История Франков (VII, 1). М.: Наука, 1987. С. 192.]
По просьбе братии он рассказал о случившемся с ним: