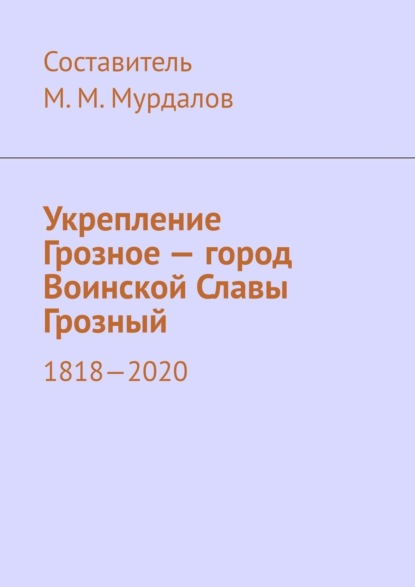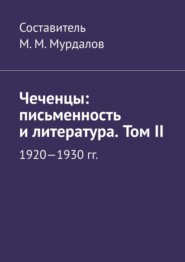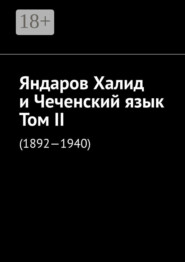По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Укрепление Грозное – город Воинской Славы Грозный. 1818–2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зимняя экспедиция 1852 г. в Чечне
«Кавказский Сборник», том 13, Тифлис.
Стр. 427. На другой день, 1-го января 1852 года, около десяти часов утра мы выступили из станицы Николаевской. Накануне термометр показывал пять градусов мороза; за ночь он поднялся до нуля, и на всем длинном переходе до Грозной нас обдавало мокрым снегом с холодным ветром, дувшим в спину. Темносерые облака бежали по одному направлению с нами, точно спешили также в отряд и боялись опоздать. Не смотря на такую неприветливую погоду, мы с песнями прошлись по баснословию грязным улицам станицы и с песнями вступили на николаевский мост, по которому многие из нас проходили в последний раз. В четыре часа пополудни мы прибыли в Грозную. Сколько раз бывал я в этой крепости, заложенной суровым блюстителем высокой нравственности и благочиния, и всегда мне казалось, что я попадал в самый разгар какой-нибудь ярмарки или храмового праздника. Первый день нового года, да еще почти накануне выступления в поход, ни в каком случае не мог составить исключения. Ни мокрый снег, ни холодный ветер, ни грязь не могли остановить расходившегося разгула; в сумерки он стал еще размашистее. По всем улицам сновали толпы народа с шарманками, впереди которых, под их визгливые звуки, одетые чуть не по-летнему, солдаты охватывали никому неизвестный танец, разбрасывая во все стороны брызги холодной грязи; везде раздавались песни, далеко не отличавшиеся стройностью и прерывавшиеся то диким гиканьем, то хриплым взвигиваньем. Заведения, над которыми красовались мокрые вывески с надписью «распивочно и навыносъ», где были в этот день переполнены, и оттуда доносились голоса, которые ни один знаток вокальной музыки не решился бы признать за человеческие. Тем хороша была Грозная, что не скрывала она своего разгула, и тем хорош был ее разгул, что веяло от него каким-то добродушием. В Грозной у нас была дневка 2-го января, а 3-го на рассвете, провожаемые все тем же мокрым снегом и холодным сырым ветром, мы выступили из нее.
Письмо Н. Н. Муравьева А. П. Ермолову из
крепости Грозной
Письма хранятся СПб РНБ ОР ф. 356, оп. Б/Н, д. 420.
От 28 февраля 1855 г. В углу двора обширного и пышного дворца, в коем сегодня ночую, стоит уединенная, скромная землянка Ваша, как укоризна нынешнему времени. Из землянки Вашей, при малых средствах, исходила сила, положившая основание крепости Грозной и покорению Чечни. Ныне средства утроились, учетверились, и все мало, да мало! – Деятельность Вашего времени заменилась бездействием; тратящаяся ныне огромная сумма не могла заменить бескорыстного усердия, внушаемого Вами подчиненным Вашим, для достижения предназначаемой цели. Казна сия обратила грозные крепости Ваши в города, куда роскошь и удобства жизни привлекли людей странних; все переженилось, обстроилось, с настойчивостью и убеждением в правоте своей требует войск для защиты войск, обратившихся в горожан, и простота землянки Вашей не поражает ослабевших воинов Кавказа, в коих хотя не исчез дух, но силы стали немощны.
Такое состояние дела, конечно, подало повод и к частным злоупотреблениям начальников, и хотя солдата не грабят, но пользуются трудами его как работой тяглого крестьянина, состояние, которое солдат предпочитает военной службе. Посудите, какое мое положение исправить в короткое время беспорядки, вкоренившиеся многими годами беспечного управления; а в последнее время и совершенным отсутствием всякой власти управления. Труд великий, коего поздних последствий я не увижу, и который доставит мне только нарекание целого населения; но Вы, зная меня, убедитесь, что это меня не остановит, если не достигну конца, то по крайней мере дам направление сему важному делу, поглощающему и силы и казну России.
В землянку Вашу послал бы их учиться, но академия эта свыше их понятия. Не скажу, чтобы не было покорности, напротив того, здесь все покорны, но покорность эта не приводит к изучению и исполнению своих обязанностей, а только к исполнению того, что прикажут. Надобно пока и этим довольствоваться, с надеждой на время, которое выкажет сотрудников, ибо дарований здесь встречаем больше, чем в России, но все погрязло в лени и усыплении. От многих слышал я справедливые суждения, что Ваша Грозная крепость служила основанием к покорению Чечни, и в самом деле, ныне видим множество огромных мирных аулов, приселяющихся под самые стены строящихся нами укреплений. Чеченцы эти ходят с нами в экспедиции и без пощады дерутся против непокорных родственников. Уже здесь учреждено 5 наибств, есть пристава и суд, установленные в подражание Вашего Кабардинского суда.
Я был в Нальчике, где устав Ваш и прокламации служат единственным руководством для дел, встречающихся не только между Кабардинцами, но даже между племенами живущими в горах. Край этот, чрез который в 1816 году еще нельзя было проехать без сильного конвоя и пушек, ныне покоен, благодаря началу Вами положенному, и я надеюсь, что народы сии не пошевелятся при теперешних военных обстоятельствах и не прельстятся воззванием, разве, что увидят среди себя иностранное войско, чему не предвижу возможности, даже на правом фланге нашем, который я частью объехал, не касаясь Черноморья.
Заключаю письмо сие похвалой сына Вашего, который служит хорошо, деятельно и поручения ему даваемые исполняет с точностью и отчетливо. Он мне полезен, и теперь находится, по поручению, в Кизляре. Послезавтра надеюсь возвратиться в Владикавказ, где думаю провести несколько дней, до переезда моего чрез горы.
Выписка из письма от 13-го марта 1855 г. Новый наш главнокомандующий, на пути следования своего в край вверенного Царской милостью его управлению, написал из крепости Грозной бывшему начальнику своему, Алексею Петровичу Ермолову, письмо, в котором он излагает мнение свое о положении этого края и мысли которые должны служить началом его управлению.
Генерал Муравьев дозволил снять с этого письма копии, не скрывая желания чтобы оно получило всеобщую гласность. По этому я полагаю, что оно известно уже и Вам, и что едкие выражения оного отозвались в Вашем русском сердце скорбным сочувствием к тем сотням тысяч русских сердец, которые бьются на Кавказе, полные любви и преданности к Царю и Отечеству.
Эти строки, написанные человеком в положении генерала Муравьева и адресованные к Алексею Петровичу Ермолову, будут иметь огромный отголосок в России и не могут не поколебать того мнения, которое Россия до сих пор имела о Кавказском войске. Кавказ от России далеко, а сочетание двух имен Ермолова и Муравьева внушает русскому доверие. Но один русский, думающий о судьбах своей родины, прочитав эти строки, задает себе страшный вопрос: не на краю ли гибели эта родина, когда те из ее сыновей, которых он привык считать самыми деятельными и сильными, стали немощны силами, и погрязли в лени и усыплении.
Но неужели мы, кавказские служивые, должны безропотно покориться этому приговору, и со стыдом преклонить перед ними головы? Нет – наша совесть слишком чиста для такого унижения! Не стали немощными и бессильными те войска, которые победили многочисленных врагов под Баш-Кидыкляром и Кюрюк-Дарой и на Чолоке! Мы не обманывали России в течение четверти века, – она смело может гордиться нами, и сказать, что нет армии на свете, которая бы переносила столько лишений и трудов, сколько Кавказская, – нет армии, в которой бы чувство самопожертвования было более развито. Здесь каждый фронтовой офицер, каждый солдат убежден, что не сегодня так завтра, не завтра так послезавтра он будет убит или изувечен… – а много ли в России Кавказских ветеранов? Их там почти нет, кости их разбросаны по целому Кавказу.
Солдат Кавказский работает много, и отстоит от военного образования, но он не тягловой крестьянин, потому что он трудится не для частных лиц, а для общей пользы. Вместо денежного капитала употребляется капитал его сил и способностей; он расходует силы эти и пот свой для сбережения Государственной казны. Если это дурно, не мы в этом виноваты.
Что же касается до вопроса землянок и дворцов, то не нам темным людям его разрешать. Помню только, что когда меня учили истории, я видел в ней, что завоевания, и особенно упрочивание оных, не делались всегда силой одного оружия, а что постройка великолепных зданий и распространение цивилизации часто к этому способствовали. Это зависит от принятой системы, которую мы не решаем. Мы бы желали только, чтобы не было резких переворотов, нельзя же по произволу, в один миг, переделывать людей из Афинян в Спартанцев, или из Спартанцев в Афинян. Это дело многих лет, более обстоятельств, чем людей, и оно принадлежит к общей системе Государства.
Кавказская война не есть война обыкновенная, Кавказское войско не есть войско, делающее кампанию: это скорее воинственный народ, создаваемый Россией и противопоставленный воинственным народам Кавказа, для защиты России. Такое положение дел не заведено никем, оно создалось силой обстоятельств, после многих неудачных попыток усмирения здешнего края. Избежать этого положения, не покорив Кавказа, – невозможно, – разве завести, по примеру средних веков, воинственный орден монахов, отрешившихся от всего земного, кроме боя и молитвы. Но возможно ли это?
Не нам также решить вопрос, почему Кавказ еще не покорен; потому ли, что теперь не живем в землянках, имеем законных жен и некоторые удобства жизни, – или потому, что его не умели покорить несколько десятков лет тому назад, когда целые народонаселения разбегались от одного гула пушечных выстрелов, когда не было ни какой связи между кавказскими племенами и обществами, и когда не было мюридизма, – начало и отчасти развитие которого относится также ко времени землянок.
Из всего вышесказанного не следует заключать, что, по моему мнению, все на Кавказе совершенно хорошо. Где же нет дурных людей и злоупотреблений? Где же люди понимают вполне и исполняют в совершенстве свой долг? Мы все убеждены, что здесь многое остается сделать, многое исправить и завести, – и всегда желали более совокупной и последовательной системы ведения войны, более разборчивого распределения Царских наград. И потому, когда мы убедились, что силы князя Воронцова ему изменили и что он уже не в состоянии управлять нашим краем в эти трудные времена, – скорбя о горькой участи заслуженного старца, одного из знаменитейших представителей русской славы, – мы стали желать и ждать с нетерпением нового энергического начальника. Люди желающие добра, желают всегда сильной власти.
Назначение генерала Муравьева мы встретили с восторгом, – не потому, чтобы он уже ознаменовал себя великими делами на военном или на гражданском поприще, а потому, что он умел как-то возбудить великие надежды, которые и мы разделяем. Но мы ожидали, что генерал Муравьев едет сюда с чувством уважения к Кавказскому войску, – уважения, которого мы вправе требовать по нашим заслугам и по чувствам нас одушевляющим. В добром деле здесь почти все сотрудники. Мы с истинной скромностью, свойственной людям, испытавшим свои силы, ожидали, что нам укажут наши ошибки и недостатки, пособят нам их исправить, и усовершенствоваться по мере сил наших и способностей, но мы не ожидали оскорбления. Заботливого, хотя сурового отца, а не насмешливого порицателя ожидали мы от Царской милости; письмо, написанное новым Главнокомандующим в Грозной и распространенное по Кавказу и России, изумило нас и огорчило.
Но недолго будет наше уныние; нам чуждо чувство подлого унижения мы покорны, – но покорны Царской воле и закону, а не бранному слову. Мы подымаем брошенную нам перчатку перед судом России и потомства, пусть нами руководят мудрые начертания! Пусть нам гениальная рука укажет путь! Мы готовы, – готовы на все, что возможно человеку, на всякие жертвы и лишения. Сколько бы ни было сих жертв и страданий частных, во всяком случае, это исполинское соревнование поведет к благу и славе нашего отечества. Нам остается вознести ко Всевышнему усердные мольбы, чтобы потомство сказало, что вождь был достоин армии, как армия будет достойна вождя.
«Десять лет на Кавказе» А. Зиссерман
«Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений» том 113, №452, 1855 год.
…Что касается первого пункта, то почему же подготовку считать только с 1846 года? Почему не с 1806 г. и даже не с 1796 года? Неоспоримо, что не будь занят Терек, нельзя было бы занять Сунжи; не будь занята Кубань, нельзя было бы думать занимать Лабу; не будь Владикавказа, Грозной, Внезапной, Темир-Хан-Шуры и пр., мы ни в три, ни в двадцать три года не могли бы покончить с Кавказом. Начиная с Суворова, ставившего по Кубани укрепления в 70-х годах прошлого столетия, с князя Цицианова, упрочившего Русскую власть за Кавказом, с Ртищева, усмирившего Хевсур и других горцев, чем он обезопасил сообщения с Россиею, с Ермолова, построившего Грозную, Внезапную, Бурную и много других важных постов, Паскевича, основавшего Закаталы, кончая Головиным, устроившим укрепления Евгениевское, Ахты и т. д., все бывшие главнокомандующие, кто больше, кто меньше, были подготовителями. Если бы князь Воронцов, приехав в 1845 г. на Кавказ, не застал Владикавказа, Грозной, Назрана, Казак-Кичу, Воздвиженской (построенной при ген. Нейдгардте), Внезапной, Герзель-аула, Куринского и др., мог ли бы он повести навязанную ему в Петербурге Даргинскую экспедицию, или начать систематические действия в Чечне, или наступление в Дагестане? Точно также и князь Барятинский, приехав в 1856 году и не найдя всего выше сказанного, очевидно не мог бы приступить к решительному, радикальному покорению Чечни, занятью Веденя и последнему удару владычеству Шамиля на Гунибе. Если бы ему предстояло занимать Сунжу, предгория на Кумыкской плоскости, или Акуту, Цудахар, Кази-Кумух и течение Самура в Дагестане, или земли Джаро-Белоканцев в Грузии, то едва ли всей жизни его достало бы дойти до Гуниба. Но что он в три года покончил с Восточным Кавказом, это факт неоспоримый и, говоря об этом, я не сочиняю панегирика, а только заявляю о действительном событии тем более несомненном и важном, что, судя по действиям его предшественников, это не было бы достигнуто ни в три, ни в тридцать лет. Таково мое полнейшее убеждение. И покончил князь Барятинский в три года не только потому, что ему оставили лишних две дивизии (всем главнокомандующим на Кавказе постепенно увеличивали число войск, и князь Воронцов в 1846 г. тоже сформировал новую дивизию), а потому, что он повел дело с того фланга, с которого и можно было покончить с сопротивлением Шамиля, потому что избрал вполне соответствующего исполнителя – генерала Евдокимова и, что еще важнее, потому, что он ясно определил цель, к которой следовало стремиться, получил высшую санкцию мерам, требовавшимся для достижения этой цели, убедил в необходимости пожертвовать большими средствами в течение нескольких лет, чем расходовать хоть и меньшие, но бесконечно. До князя Воронцова, собственно говоря, даже не было твердо определено: чего мы хотим на Кавказе? Полного покорения, превращения в Русскую область, или усмирения, обеспечения наших пределов, т. е. Терека, Кубани, Алазани? Разве не велись еще серьезные речи о мирных торговых сношениях с горцами, о каком-нибудь modus-vivendi с ними? Разве еще в 1855 году генерал Муравьев не думал, что полезно было бы с Шамилем войти в мирные переговоры, посулив ему нечто в роде учреждения династии под нашим покровительством? Разве и самому князю Барятинскому еще позже не писали, чтобы он оставил блестящие экспедиции в горы и предался мирным занятиям в роли скромного губернатора?…
…Между тем, в двадцатых годах, появились на Кавказе люди, называвшие себя вдохновенными последователями и толкователями веры Магомета. Пользуясь легковерием и невежеством горцев, они, под предлогом учения о мюридизме, внушали им непримиримую ненависть к христианам и возбудили казават, то есть войну против неверных. Свирепость дикарей увеличилась фанатизмом, постоянно поджигаемым хитрым духовенством, которое приобретало чрез это больше влияния и, само собою, личных выгод. Мюридизм, возмутив общее спокойствие Дагестана, где скалы и непроходимые дороги укрывали горцев от наших ударов, долго, однако, не выходил из пределов этого края и Чечня, легче доступная, оставалась в том же спокойном, почти покорном положении; тем более, что с постройкою в 1818 году на реке Сунже крепости Грозной, и на восточной оконечности чеченской долины крепости Внезапной, и с увеличением поселений и резервов на Тереке, мы имели больше возможности во всякое время проникнуть к ним с оружием в руках.
«ПИСЬМО ИЗ ГРОЗНОЙ». 1856 ГОД
«Русский Инвалид». А. Зиссерман. Апрель 1856 г. кр. Грозная.
Горизонт на Западе прояснился. Гром орудий умолк. Всеобщее внимание, в течение почти трех лет поглощенное событиями в Крыму и под Карсом, действиями неприятельских армад Свеаборгом, в Азовском и Белом морях, – снова обратится к мирным предметам. Наши кавказские дела, отодвинутые в это бурное время на задний план, снова возбудит прежнее участие; по-прежнему будут радоваться, встречая знакомое заглавие: «Известия с Кавказа», и с жадностью прочитывать о подвигах войск, слишком полвека стоящих на страже южной России, готовых каждую минуту встретить вооруженной рукою толпы диких фанатиков. Опять будут рукоплескать подвигам наших молодцов, доказавших, что они умеют бороться со всеми ужасами Кавказской природы, и разбивать не только Шамиля, но и других, более образованных противников…
Пройдет несколько времени, кровавая драма исчезнет понемногу из памяти. Восстанет из развалин Севастополь, еще прекраснее прежнего; расцветут города и села на опустошенном берегу Черного моря; закипят торговая и промышленная деятельность, и по-прежнему приедут недавние враги за вашим хлебом. И снова услышит далекая родина об нас. Среди мира и тишины снова понесется гул Кавказских выстрелов, пока и они, в свою очередь, не умолкнут, уступив место орудиям, более мирным и полезным.
Но и во время разгара недавно кончившейся войны мы продолжали наши дела: бегали на тревоги, врывались в пределы неприятеля, уничтожали его запасы и посевы, строили новые укрепления, прокладывали дороги. Одним словом, настойчиво стремились к цели, – и, еще несколько усилий, нет сомнения, неприятель склонит повинную голову и променяет деспотическое владычество фанатизма на великодушное покровительство могущественной державы.
В июне минувшего года мы делали экспедицию за р. Басс. Беларусь за перо, чтобы рассказать об этом движения, не с целью хвалиться подвигами особенного геройства и самоотвержения, а просто, чтобы подать весть из далекой, полуизвестной Чечни. Вероятно, порадуются и вашему маленькому успеху, да кто-нибудь помолится за исцеление раненых и упокой сложивших головы в дальней стороне.
Удушливо-жаркий день склонился к вечеру. Пред бульваром заиграла музыка; на аллеях показалось несколько человек, осмелившихся выйти на божий свет, не боясь задохнуться остатками тяжелого, дневного зноя. Часу в 10-м, число гуляющих значительно возросло, и обыкновенный разговор о Крымских событиях сделался общим; за недостатков официальных известий, сообщались слухи, часто подтверждающиеся; за неимением слухов, всяк толковал свои предположения. Вдруг кто-то проговорил: «господа! Поход; чрез час выступаем; генерал уже приказал кавалерии выходить за ворота». – Все засуетилось. Всяк повторял поход, выступаем, но куда, в какую сторону, надолго ли, – этого никто не мог объяснить. Не принимающие участия в походах остались развивать об этом свои предположения, а мы бегом пустились по домам, чтобы успеть собраться.
В половине 11-го часа, собранная к Алхан-Юртовским воротам кавалерия и конные орудия тронулись. Ночь была темная. В воздухе ни малейшего движения. Пыль густыми массами окружала нас. Изредка на западе, сверкала молния, освещая на мгновение покрытый черными тучами небосклон. Мертвая тишина, соблюдаемая нами, прерывалась отдаленным, едва слышным ропотом Сунжи, да изредка храпением лошади, или бряцанием оружия. Не испытав, трудно себе представить ощущения при ночных движениях, особенно вблизи неприятеля. Расстояния кажутся бесконечными, ничтожный перелесок – дремучим лесом, переправа через мелкую реку – бездонною глубиной; торная дорога принимает вид заглохшей тропинки и потому-то все кажется, что сбились с дороги… Был 12-й час в исходе, когда, переехав Сунжу, мы остановились, чтобы дать время, не только никто бы не думал о сне, а напротив досадовал бы на рано окончившийся преферанс, или недостаток хорошего чтения, считая слишком рано ложиться спать.
Пройдя опустевшие поля Малой Чечни, покрытые огромным бурьяном, мы на рассвете вышли к Аргуну, у разоренного аула Большой Чечен. Под проливным дождем переправились мы чрез разлившуюся реку, катившую с грохотом свои мутные волны. Ливень не переставал; лошади скользили и спотыкались. Промокшие до костей, едва держались на ногах и сомневались в своих силах, – если придется ехать еще далеко; утомление достигало крайних пределов. – Но вот Шалинская просека, вот и знаменитый некогда окоп, напоминающий о подвигах наших войск, о славном рыцаре Слепцове, так преждевременно сраженном вражьею пулей; вот следы ваших зимних трудов – чистое поле на местах некогда частого лесу; вот остаток сожженного сена; вот место, где 22-го декабря славно позавтракали… И, рождаясь одно за другим, понеслись воспоминания о лицах, бывших здесь тогда, о надеждах и мечтах волновавших нас в то время, и невольно повторялось: «свежо предание, а верится с трудом!…»
На реке Шавдон встретила нас колонна, часом раньше прибывшая из кр. Воздвиженской. Все думали – верно здесь остановимся. Но нет; – ждем далее, переходим р. Басс, тянемся топкими полями. Яркое солнце после дождя осветило дремучий лес на хребте Черных гор, озолотило верхи едва колыхавшейся кукурузы, за которою, на полях, показалась стройная масса неприятельской конницы, запестрели значки, игриво-волнуемые легким ветерком. Куда девалось утомление и желание отдыха! Забыта и ночь, проведенная на коне, забыты голод и жажда, – все уступило непонятной охоте поскорее сойтись с врагом и наказать его за дерзкий помысел встретить нас в открытом поле.
Сотни начали строиться в атаке; другие выскакали вперед; солдатики, перекрестясь, прибавили шагу. Разыгрывавшееся воображение уже рисовало картину лихой кавалерийской атаки; но, увы! После двух-трех картечных выстрелов, неприятель стал отступать и в несколько минут скрылся в лесу. Началась обыкновенная история: пехота заняла цепями опушку, орудия стали на позициях, резервы расположились за местными прикрытиями, кавалерия спешилась и, рассыпавшись по полям, шашками и кинжалами принялась уничтожать кукурузу, или «початки», выражаясь по-казачьи. – Перестрелка закипела по всей линии; грохот рассыпающейся по лесу картечи прерывался свистом неприятельских ядер, осыпавших нас комками грязи. Мы носились взад-вперед с приказаниями, завидуя некоторым счастливцам, расположившимся с запусками на барабанах.
В 4-м часу началось отступление. Пока преследующий нас неприятель мог прикрываться кустами, выстрелы не умолкали; но как только войска вышли на открытое поле, перестрелка утихла и кучки конных чеченцев разъезжали на благородной дистанции. В 6 часов мы возвратились на Шавдон, где застали пришедшую из Грозной пехоту и артиллерию. Отряд расположился бивуаками.
И так, мы пробыли около 20-ти часов на конях, почти не слезая; успели дальним обходным движением пройти без отдыха из Грозной к подножию Черных гор, прогнали неприятеля, собравшегося защищать свои поля, и истребили их совершенно.
13-го числа, отряд выступил из лагеря опять по тому же направлению. За р. Бассом чеченцы выстроили по обеим сторонам дороги две большие конные колонны, предполагая, что, внезапно завидя их, мы остановимся, начнем строиться, поджидать артиллерию и пехоту, а они воспользуются этим временем, задержать наш выход из кустов к переправе и нанесут нам большой урон. Но не так случилось. По первому крику ехавших впереди нескольких милиционеров, все бросились к переправе – и, одна за другою, понеслись 30 сотен казаков с криком ура! прямо на неприятеля. Ошеломленные такою неожиданностью, чеченцы, не сделав даже залпа, показали тыл, и шесть верст, до самого лесу, мы гнали их во весь карьер. Несколько человек тут же были схвачены. Таким образом, попытка неприятеля остановить нас была уничтожена, а колонна, занявпо вчерашнему опушки, прикрыла лежащие в тылу поля с кукурузой и просек. Чрез несколько часов исчезли следы посевов.
14-го числа, неприятель уже не выходил встречать нас в открытом поле. Убедившись, что им не воспрепятствовать достижении нашей цели, они старались нанести нам, по крайней мере, как можно больше вреда, и занимал каждый куст, каждую балку, весь день придерживали самую усиленную перестрелку. На ядра неприятель видимо скупился: он угощал нас точно по пословице: «чрез час по ложке». Отряд был разделен на две колонны; каждая обходила назначенное пространство засеянных полей, и истребив посевы, подвигалась далее. Неприятель, отстреливаясь, отступал; цепи бросались за ним с криком ура! выгоняли его из занимаемых позиций и беспрерывным огнем, поддержанным картечными выстрелами, не допускали его к опушкам. Изредка только несколько смельчаков подкрадывались к цели, делали залп, кто-нибудь из наших падал; но в тоже мгновение посылался громкий ответ картечей и штуцерных пуль, – глядишь: тащат одного-двух за ноги в чащу леса; еще залп, бросают ношу, и остается умирающий наездник, силясь повернуться на восток… Орудий неприятельских не видать; они ставят их в закрытых местах, недоступных для кавалерии. Только вдруг покажется дымок – «Братцы, он стреляет!» и вслед затем со свистом промчится над головами ядро, вопьется с глухим стоном в землю и пойдет рикошетом; а то врежется пред самою колонной в вспаханную землю, засыпая передних грязью, или ворвется в средину колонны, раздастся какой-то необъяснимо-неприятный звук. – «Кого там задело?» торопится всякий спросить. «Антерилицкую лошадь!» Слава Богу!… Одно ядро влетело в ехавшую за нами сотню Грозненских казаков, бывших в конвое у генерала; по звуку удара слышно было, что выстрел не обошелся без жертвы; невольно все обернулись. Но Всевышний видимо хранит рать православную: ядро вырвало двух лошадей в первом взводе; окружающих обдало кровью и внутренностями бедных животных; лошади шарахнулись в сторону, а седоки отделались падением, не получив даже контузии. «Вот те и серый!» сказал один, вставая, снял седло и отправился к обозу.
Странно, однако, есть не только отдельные лица, но даже целые части войск, которым ни одно дело, ни одна перестрелки даром не обойдутся. Не убьют, так ранят, а нет, то уж лошадям достанется. Из моих знакомых, некто войсковой старшина Ф. и майор М., храбрейшие люди, из каждого дела выходит с отметкой, – если не ранены, то с безногими лошадьми, или вовсе пешком; а теперь, к сожалению, оба ранены. Грозненская сотня тоже на это счастлива, иногда пустейшая перестрелка, а у них, глядишь, несут кого-нибудь, или два-три человека плетутся с седлами на плечах.
В этот день работа пошла с необыкновенным успехом. К 3-м часам пополудни, кругом на расстоянии не менее 10—12 квадр. верст, поля, накануне цветущие густым, полусозревшим хлебом, превратились в заброшенные пашни, не дождавшие посевов. Три небольшие аула, лежавшие у самого подножия Черных гор, преданы пламени.
Картина пожара была прекрасна и вполне достойна кисти Айвазовского. Необыкновенно яркое пламя камышевых крыш и хлебных копен отражалось на гигантских деревьях позади лежащего леса, окрашивая их в кирпичный цвет; рассыпанные по аулу люди казались какими-то тенями, бродящими в пламени; густой, желтоватый дым тяжелыми клубами окружал пожарище; выходившие из аула люди и лошади мгновенно исчезали в нем, как в бездне. Листья горящих деревьев кружились над всею картиной, как снег, падающий большими хлопьями; испуганные куры носились с печальным кудахтаньем над самым пламенем; поодаль от нас, над небольшим обрывом, стояли кучками конные и пешие чеченцы, перестреливаясь с цепями; треск горевшего камыша и хвороста прерывался выстрелами да шипением ракет, крестивших в разных направлениях воздух.
Приход отряда за Басс наделал немало тревоги в горах. Шамиль немедленно разослал ко всем наибам приказания – собираться скопищам к Веденю. Он боялся дальнейшего наступления отряда, грозившего окончательным истреблением всех посевов на плоскости, последствием чего был бы ничем неотвратимый голод. Но он уже опоздал. Мы успели кончить свое дело. Наибство Талгика осталось без хлеба; надежды на Джалканские запасы, снабжавшие всех непокорных, рушились с исходом нашей зимней экспедиции, и им остается теперь или голодать, или искать нашего покровительства и выселиться в покорные аулы, под стенами наших укреплений. Нет сомнения, что большинство так и сделает.
Сын Шамиля, Джемаль-Эддин, недавно возвратившийся на родину, уступил убеждениям отца и согласился жениться на дочери наиба Талгика, 15-ти летней, хорошенькой девочке. В день прихода отряда, из Веденя приехали за невестой шурин Талгика и другой какой-то приближенный к имаму человек. Сделалась тревога; они выехали посмотреть на нас и вмешались в толпу конных чеченцев. За это любопытство они расстилались самым плачевным образом: один убит наповал, другой, упав с убитой под ним лошади, повредил себе руку или ногу. Свадьба была отложена. После ухода наших войск, собравшиеся со всех сторон толпы простояли несколько дней на Бассе и разошлись. Неделю спустя, Джемаль-Эддин женился…
К вечеру мы возвратились в лагерь. Разлегшись на свежей скошенной траве, мы пили чай, курили, рассказывали впечатления и случайности наших дел с чеченцами, ожидая незатейливого ужина, и заранее мечтая об удовольствии, с каким до утра «зададим высыпку». Пробили повестку; грянул выстрел: граната умчалась едва светящейся точкой к неприятельской стороне, горнисты заиграли зорю; песенники пропели «Боже, царя храни» и «Отче наш», люди, крестясь, собирались ложиться спать, и мы уже думали последовать за ними, как вдруг барабанщик «ударил адъютантов». Что бы это значило? Какое приказание будет отдано в это время?… Так и есть, чрез час вся кавалерия с конными орудиями выступает с генералом, а пехота остается на своих местах. …На берегу реки мы отдохнули часа два, утолили нестерпимую жажду и пустились к Аргуну, по дороге в Грозную, до которой оставалось еще верст 25…
И так, поход кончен; идем домой, идем отдыхать. Пройдет день, другой; человек выспится, измятые кости придут в нормальное положение; окруженный некоторыми удобствами, забудет он и бессонницу, и утомление, и тревожные часы, проведенные на коне – среди опасностей; разве потрескавшиеся от загара губы, да большая кожа на лице помнят о нескольких днях движения в неприятельскую землю…
Даже весело, когда после таких трудов возвращаешься домой: бедная квартирка с разбитыми стеклами, не затворяющеюся дверью и скрипучим неровным полом, рисуется чуть ли дворцом. Чем ближе к дому, тем все приходит в более или менее веселое расположение духа, рассказывают очень забавные вещи, – и, смотря на эту массу вооруженных людей, нельзя как-то представить себе, что они, час тому назад, были лицом к лицу с неприятелем, стояли под его меткими выстрелами, рисковали каждый сложить свою голову или остаться без руки… Только стоны раненых, едущих в длинных транспортирных повозках, да переваленные поперек лошадей тела убитых казаков, у которых как-то весьма неприятно болтаются отвисшие руки, напоминают настоящее значение этой массы людей, умеющих с таким необыкновенным равнодушием смотреть в глаза смерти…
Смерклось. Лошади двигались медленным, убаюкивающим шагом. Сначала я только дремал, после стал засыпать, просыпаясь чрез каждые 5—6 шагов, и под конец совсем заснул, придерживаясь обеими руками за луку…
«Кавказский Сборник», том 13, Тифлис.
Стр. 427. На другой день, 1-го января 1852 года, около десяти часов утра мы выступили из станицы Николаевской. Накануне термометр показывал пять градусов мороза; за ночь он поднялся до нуля, и на всем длинном переходе до Грозной нас обдавало мокрым снегом с холодным ветром, дувшим в спину. Темносерые облака бежали по одному направлению с нами, точно спешили также в отряд и боялись опоздать. Не смотря на такую неприветливую погоду, мы с песнями прошлись по баснословию грязным улицам станицы и с песнями вступили на николаевский мост, по которому многие из нас проходили в последний раз. В четыре часа пополудни мы прибыли в Грозную. Сколько раз бывал я в этой крепости, заложенной суровым блюстителем высокой нравственности и благочиния, и всегда мне казалось, что я попадал в самый разгар какой-нибудь ярмарки или храмового праздника. Первый день нового года, да еще почти накануне выступления в поход, ни в каком случае не мог составить исключения. Ни мокрый снег, ни холодный ветер, ни грязь не могли остановить расходившегося разгула; в сумерки он стал еще размашистее. По всем улицам сновали толпы народа с шарманками, впереди которых, под их визгливые звуки, одетые чуть не по-летнему, солдаты охватывали никому неизвестный танец, разбрасывая во все стороны брызги холодной грязи; везде раздавались песни, далеко не отличавшиеся стройностью и прерывавшиеся то диким гиканьем, то хриплым взвигиваньем. Заведения, над которыми красовались мокрые вывески с надписью «распивочно и навыносъ», где были в этот день переполнены, и оттуда доносились голоса, которые ни один знаток вокальной музыки не решился бы признать за человеческие. Тем хороша была Грозная, что не скрывала она своего разгула, и тем хорош был ее разгул, что веяло от него каким-то добродушием. В Грозной у нас была дневка 2-го января, а 3-го на рассвете, провожаемые все тем же мокрым снегом и холодным сырым ветром, мы выступили из нее.
Письмо Н. Н. Муравьева А. П. Ермолову из
крепости Грозной
Письма хранятся СПб РНБ ОР ф. 356, оп. Б/Н, д. 420.
От 28 февраля 1855 г. В углу двора обширного и пышного дворца, в коем сегодня ночую, стоит уединенная, скромная землянка Ваша, как укоризна нынешнему времени. Из землянки Вашей, при малых средствах, исходила сила, положившая основание крепости Грозной и покорению Чечни. Ныне средства утроились, учетверились, и все мало, да мало! – Деятельность Вашего времени заменилась бездействием; тратящаяся ныне огромная сумма не могла заменить бескорыстного усердия, внушаемого Вами подчиненным Вашим, для достижения предназначаемой цели. Казна сия обратила грозные крепости Ваши в города, куда роскошь и удобства жизни привлекли людей странних; все переженилось, обстроилось, с настойчивостью и убеждением в правоте своей требует войск для защиты войск, обратившихся в горожан, и простота землянки Вашей не поражает ослабевших воинов Кавказа, в коих хотя не исчез дух, но силы стали немощны.
Такое состояние дела, конечно, подало повод и к частным злоупотреблениям начальников, и хотя солдата не грабят, но пользуются трудами его как работой тяглого крестьянина, состояние, которое солдат предпочитает военной службе. Посудите, какое мое положение исправить в короткое время беспорядки, вкоренившиеся многими годами беспечного управления; а в последнее время и совершенным отсутствием всякой власти управления. Труд великий, коего поздних последствий я не увижу, и который доставит мне только нарекание целого населения; но Вы, зная меня, убедитесь, что это меня не остановит, если не достигну конца, то по крайней мере дам направление сему важному делу, поглощающему и силы и казну России.
В землянку Вашу послал бы их учиться, но академия эта свыше их понятия. Не скажу, чтобы не было покорности, напротив того, здесь все покорны, но покорность эта не приводит к изучению и исполнению своих обязанностей, а только к исполнению того, что прикажут. Надобно пока и этим довольствоваться, с надеждой на время, которое выкажет сотрудников, ибо дарований здесь встречаем больше, чем в России, но все погрязло в лени и усыплении. От многих слышал я справедливые суждения, что Ваша Грозная крепость служила основанием к покорению Чечни, и в самом деле, ныне видим множество огромных мирных аулов, приселяющихся под самые стены строящихся нами укреплений. Чеченцы эти ходят с нами в экспедиции и без пощады дерутся против непокорных родственников. Уже здесь учреждено 5 наибств, есть пристава и суд, установленные в подражание Вашего Кабардинского суда.
Я был в Нальчике, где устав Ваш и прокламации служат единственным руководством для дел, встречающихся не только между Кабардинцами, но даже между племенами живущими в горах. Край этот, чрез который в 1816 году еще нельзя было проехать без сильного конвоя и пушек, ныне покоен, благодаря началу Вами положенному, и я надеюсь, что народы сии не пошевелятся при теперешних военных обстоятельствах и не прельстятся воззванием, разве, что увидят среди себя иностранное войско, чему не предвижу возможности, даже на правом фланге нашем, который я частью объехал, не касаясь Черноморья.
Заключаю письмо сие похвалой сына Вашего, который служит хорошо, деятельно и поручения ему даваемые исполняет с точностью и отчетливо. Он мне полезен, и теперь находится, по поручению, в Кизляре. Послезавтра надеюсь возвратиться в Владикавказ, где думаю провести несколько дней, до переезда моего чрез горы.
Выписка из письма от 13-го марта 1855 г. Новый наш главнокомандующий, на пути следования своего в край вверенного Царской милостью его управлению, написал из крепости Грозной бывшему начальнику своему, Алексею Петровичу Ермолову, письмо, в котором он излагает мнение свое о положении этого края и мысли которые должны служить началом его управлению.
Генерал Муравьев дозволил снять с этого письма копии, не скрывая желания чтобы оно получило всеобщую гласность. По этому я полагаю, что оно известно уже и Вам, и что едкие выражения оного отозвались в Вашем русском сердце скорбным сочувствием к тем сотням тысяч русских сердец, которые бьются на Кавказе, полные любви и преданности к Царю и Отечеству.
Эти строки, написанные человеком в положении генерала Муравьева и адресованные к Алексею Петровичу Ермолову, будут иметь огромный отголосок в России и не могут не поколебать того мнения, которое Россия до сих пор имела о Кавказском войске. Кавказ от России далеко, а сочетание двух имен Ермолова и Муравьева внушает русскому доверие. Но один русский, думающий о судьбах своей родины, прочитав эти строки, задает себе страшный вопрос: не на краю ли гибели эта родина, когда те из ее сыновей, которых он привык считать самыми деятельными и сильными, стали немощны силами, и погрязли в лени и усыплении.
Но неужели мы, кавказские служивые, должны безропотно покориться этому приговору, и со стыдом преклонить перед ними головы? Нет – наша совесть слишком чиста для такого унижения! Не стали немощными и бессильными те войска, которые победили многочисленных врагов под Баш-Кидыкляром и Кюрюк-Дарой и на Чолоке! Мы не обманывали России в течение четверти века, – она смело может гордиться нами, и сказать, что нет армии на свете, которая бы переносила столько лишений и трудов, сколько Кавказская, – нет армии, в которой бы чувство самопожертвования было более развито. Здесь каждый фронтовой офицер, каждый солдат убежден, что не сегодня так завтра, не завтра так послезавтра он будет убит или изувечен… – а много ли в России Кавказских ветеранов? Их там почти нет, кости их разбросаны по целому Кавказу.
Солдат Кавказский работает много, и отстоит от военного образования, но он не тягловой крестьянин, потому что он трудится не для частных лиц, а для общей пользы. Вместо денежного капитала употребляется капитал его сил и способностей; он расходует силы эти и пот свой для сбережения Государственной казны. Если это дурно, не мы в этом виноваты.
Что же касается до вопроса землянок и дворцов, то не нам темным людям его разрешать. Помню только, что когда меня учили истории, я видел в ней, что завоевания, и особенно упрочивание оных, не делались всегда силой одного оружия, а что постройка великолепных зданий и распространение цивилизации часто к этому способствовали. Это зависит от принятой системы, которую мы не решаем. Мы бы желали только, чтобы не было резких переворотов, нельзя же по произволу, в один миг, переделывать людей из Афинян в Спартанцев, или из Спартанцев в Афинян. Это дело многих лет, более обстоятельств, чем людей, и оно принадлежит к общей системе Государства.
Кавказская война не есть война обыкновенная, Кавказское войско не есть войско, делающее кампанию: это скорее воинственный народ, создаваемый Россией и противопоставленный воинственным народам Кавказа, для защиты России. Такое положение дел не заведено никем, оно создалось силой обстоятельств, после многих неудачных попыток усмирения здешнего края. Избежать этого положения, не покорив Кавказа, – невозможно, – разве завести, по примеру средних веков, воинственный орден монахов, отрешившихся от всего земного, кроме боя и молитвы. Но возможно ли это?
Не нам также решить вопрос, почему Кавказ еще не покорен; потому ли, что теперь не живем в землянках, имеем законных жен и некоторые удобства жизни, – или потому, что его не умели покорить несколько десятков лет тому назад, когда целые народонаселения разбегались от одного гула пушечных выстрелов, когда не было ни какой связи между кавказскими племенами и обществами, и когда не было мюридизма, – начало и отчасти развитие которого относится также ко времени землянок.
Из всего вышесказанного не следует заключать, что, по моему мнению, все на Кавказе совершенно хорошо. Где же нет дурных людей и злоупотреблений? Где же люди понимают вполне и исполняют в совершенстве свой долг? Мы все убеждены, что здесь многое остается сделать, многое исправить и завести, – и всегда желали более совокупной и последовательной системы ведения войны, более разборчивого распределения Царских наград. И потому, когда мы убедились, что силы князя Воронцова ему изменили и что он уже не в состоянии управлять нашим краем в эти трудные времена, – скорбя о горькой участи заслуженного старца, одного из знаменитейших представителей русской славы, – мы стали желать и ждать с нетерпением нового энергического начальника. Люди желающие добра, желают всегда сильной власти.
Назначение генерала Муравьева мы встретили с восторгом, – не потому, чтобы он уже ознаменовал себя великими делами на военном или на гражданском поприще, а потому, что он умел как-то возбудить великие надежды, которые и мы разделяем. Но мы ожидали, что генерал Муравьев едет сюда с чувством уважения к Кавказскому войску, – уважения, которого мы вправе требовать по нашим заслугам и по чувствам нас одушевляющим. В добром деле здесь почти все сотрудники. Мы с истинной скромностью, свойственной людям, испытавшим свои силы, ожидали, что нам укажут наши ошибки и недостатки, пособят нам их исправить, и усовершенствоваться по мере сил наших и способностей, но мы не ожидали оскорбления. Заботливого, хотя сурового отца, а не насмешливого порицателя ожидали мы от Царской милости; письмо, написанное новым Главнокомандующим в Грозной и распространенное по Кавказу и России, изумило нас и огорчило.
Но недолго будет наше уныние; нам чуждо чувство подлого унижения мы покорны, – но покорны Царской воле и закону, а не бранному слову. Мы подымаем брошенную нам перчатку перед судом России и потомства, пусть нами руководят мудрые начертания! Пусть нам гениальная рука укажет путь! Мы готовы, – готовы на все, что возможно человеку, на всякие жертвы и лишения. Сколько бы ни было сих жертв и страданий частных, во всяком случае, это исполинское соревнование поведет к благу и славе нашего отечества. Нам остается вознести ко Всевышнему усердные мольбы, чтобы потомство сказало, что вождь был достоин армии, как армия будет достойна вождя.
«Десять лет на Кавказе» А. Зиссерман
«Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений» том 113, №452, 1855 год.
…Что касается первого пункта, то почему же подготовку считать только с 1846 года? Почему не с 1806 г. и даже не с 1796 года? Неоспоримо, что не будь занят Терек, нельзя было бы занять Сунжи; не будь занята Кубань, нельзя было бы думать занимать Лабу; не будь Владикавказа, Грозной, Внезапной, Темир-Хан-Шуры и пр., мы ни в три, ни в двадцать три года не могли бы покончить с Кавказом. Начиная с Суворова, ставившего по Кубани укрепления в 70-х годах прошлого столетия, с князя Цицианова, упрочившего Русскую власть за Кавказом, с Ртищева, усмирившего Хевсур и других горцев, чем он обезопасил сообщения с Россиею, с Ермолова, построившего Грозную, Внезапную, Бурную и много других важных постов, Паскевича, основавшего Закаталы, кончая Головиным, устроившим укрепления Евгениевское, Ахты и т. д., все бывшие главнокомандующие, кто больше, кто меньше, были подготовителями. Если бы князь Воронцов, приехав в 1845 г. на Кавказ, не застал Владикавказа, Грозной, Назрана, Казак-Кичу, Воздвиженской (построенной при ген. Нейдгардте), Внезапной, Герзель-аула, Куринского и др., мог ли бы он повести навязанную ему в Петербурге Даргинскую экспедицию, или начать систематические действия в Чечне, или наступление в Дагестане? Точно также и князь Барятинский, приехав в 1856 году и не найдя всего выше сказанного, очевидно не мог бы приступить к решительному, радикальному покорению Чечни, занятью Веденя и последнему удару владычеству Шамиля на Гунибе. Если бы ему предстояло занимать Сунжу, предгория на Кумыкской плоскости, или Акуту, Цудахар, Кази-Кумух и течение Самура в Дагестане, или земли Джаро-Белоканцев в Грузии, то едва ли всей жизни его достало бы дойти до Гуниба. Но что он в три года покончил с Восточным Кавказом, это факт неоспоримый и, говоря об этом, я не сочиняю панегирика, а только заявляю о действительном событии тем более несомненном и важном, что, судя по действиям его предшественников, это не было бы достигнуто ни в три, ни в тридцать лет. Таково мое полнейшее убеждение. И покончил князь Барятинский в три года не только потому, что ему оставили лишних две дивизии (всем главнокомандующим на Кавказе постепенно увеличивали число войск, и князь Воронцов в 1846 г. тоже сформировал новую дивизию), а потому, что он повел дело с того фланга, с которого и можно было покончить с сопротивлением Шамиля, потому что избрал вполне соответствующего исполнителя – генерала Евдокимова и, что еще важнее, потому, что он ясно определил цель, к которой следовало стремиться, получил высшую санкцию мерам, требовавшимся для достижения этой цели, убедил в необходимости пожертвовать большими средствами в течение нескольких лет, чем расходовать хоть и меньшие, но бесконечно. До князя Воронцова, собственно говоря, даже не было твердо определено: чего мы хотим на Кавказе? Полного покорения, превращения в Русскую область, или усмирения, обеспечения наших пределов, т. е. Терека, Кубани, Алазани? Разве не велись еще серьезные речи о мирных торговых сношениях с горцами, о каком-нибудь modus-vivendi с ними? Разве еще в 1855 году генерал Муравьев не думал, что полезно было бы с Шамилем войти в мирные переговоры, посулив ему нечто в роде учреждения династии под нашим покровительством? Разве и самому князю Барятинскому еще позже не писали, чтобы он оставил блестящие экспедиции в горы и предался мирным занятиям в роли скромного губернатора?…
…Между тем, в двадцатых годах, появились на Кавказе люди, называвшие себя вдохновенными последователями и толкователями веры Магомета. Пользуясь легковерием и невежеством горцев, они, под предлогом учения о мюридизме, внушали им непримиримую ненависть к христианам и возбудили казават, то есть войну против неверных. Свирепость дикарей увеличилась фанатизмом, постоянно поджигаемым хитрым духовенством, которое приобретало чрез это больше влияния и, само собою, личных выгод. Мюридизм, возмутив общее спокойствие Дагестана, где скалы и непроходимые дороги укрывали горцев от наших ударов, долго, однако, не выходил из пределов этого края и Чечня, легче доступная, оставалась в том же спокойном, почти покорном положении; тем более, что с постройкою в 1818 году на реке Сунже крепости Грозной, и на восточной оконечности чеченской долины крепости Внезапной, и с увеличением поселений и резервов на Тереке, мы имели больше возможности во всякое время проникнуть к ним с оружием в руках.
«ПИСЬМО ИЗ ГРОЗНОЙ». 1856 ГОД
«Русский Инвалид». А. Зиссерман. Апрель 1856 г. кр. Грозная.
Горизонт на Западе прояснился. Гром орудий умолк. Всеобщее внимание, в течение почти трех лет поглощенное событиями в Крыму и под Карсом, действиями неприятельских армад Свеаборгом, в Азовском и Белом морях, – снова обратится к мирным предметам. Наши кавказские дела, отодвинутые в это бурное время на задний план, снова возбудит прежнее участие; по-прежнему будут радоваться, встречая знакомое заглавие: «Известия с Кавказа», и с жадностью прочитывать о подвигах войск, слишком полвека стоящих на страже южной России, готовых каждую минуту встретить вооруженной рукою толпы диких фанатиков. Опять будут рукоплескать подвигам наших молодцов, доказавших, что они умеют бороться со всеми ужасами Кавказской природы, и разбивать не только Шамиля, но и других, более образованных противников…
Пройдет несколько времени, кровавая драма исчезнет понемногу из памяти. Восстанет из развалин Севастополь, еще прекраснее прежнего; расцветут города и села на опустошенном берегу Черного моря; закипят торговая и промышленная деятельность, и по-прежнему приедут недавние враги за вашим хлебом. И снова услышит далекая родина об нас. Среди мира и тишины снова понесется гул Кавказских выстрелов, пока и они, в свою очередь, не умолкнут, уступив место орудиям, более мирным и полезным.
Но и во время разгара недавно кончившейся войны мы продолжали наши дела: бегали на тревоги, врывались в пределы неприятеля, уничтожали его запасы и посевы, строили новые укрепления, прокладывали дороги. Одним словом, настойчиво стремились к цели, – и, еще несколько усилий, нет сомнения, неприятель склонит повинную голову и променяет деспотическое владычество фанатизма на великодушное покровительство могущественной державы.
В июне минувшего года мы делали экспедицию за р. Басс. Беларусь за перо, чтобы рассказать об этом движения, не с целью хвалиться подвигами особенного геройства и самоотвержения, а просто, чтобы подать весть из далекой, полуизвестной Чечни. Вероятно, порадуются и вашему маленькому успеху, да кто-нибудь помолится за исцеление раненых и упокой сложивших головы в дальней стороне.
Удушливо-жаркий день склонился к вечеру. Пред бульваром заиграла музыка; на аллеях показалось несколько человек, осмелившихся выйти на божий свет, не боясь задохнуться остатками тяжелого, дневного зноя. Часу в 10-м, число гуляющих значительно возросло, и обыкновенный разговор о Крымских событиях сделался общим; за недостатков официальных известий, сообщались слухи, часто подтверждающиеся; за неимением слухов, всяк толковал свои предположения. Вдруг кто-то проговорил: «господа! Поход; чрез час выступаем; генерал уже приказал кавалерии выходить за ворота». – Все засуетилось. Всяк повторял поход, выступаем, но куда, в какую сторону, надолго ли, – этого никто не мог объяснить. Не принимающие участия в походах остались развивать об этом свои предположения, а мы бегом пустились по домам, чтобы успеть собраться.
В половине 11-го часа, собранная к Алхан-Юртовским воротам кавалерия и конные орудия тронулись. Ночь была темная. В воздухе ни малейшего движения. Пыль густыми массами окружала нас. Изредка на западе, сверкала молния, освещая на мгновение покрытый черными тучами небосклон. Мертвая тишина, соблюдаемая нами, прерывалась отдаленным, едва слышным ропотом Сунжи, да изредка храпением лошади, или бряцанием оружия. Не испытав, трудно себе представить ощущения при ночных движениях, особенно вблизи неприятеля. Расстояния кажутся бесконечными, ничтожный перелесок – дремучим лесом, переправа через мелкую реку – бездонною глубиной; торная дорога принимает вид заглохшей тропинки и потому-то все кажется, что сбились с дороги… Был 12-й час в исходе, когда, переехав Сунжу, мы остановились, чтобы дать время, не только никто бы не думал о сне, а напротив досадовал бы на рано окончившийся преферанс, или недостаток хорошего чтения, считая слишком рано ложиться спать.
Пройдя опустевшие поля Малой Чечни, покрытые огромным бурьяном, мы на рассвете вышли к Аргуну, у разоренного аула Большой Чечен. Под проливным дождем переправились мы чрез разлившуюся реку, катившую с грохотом свои мутные волны. Ливень не переставал; лошади скользили и спотыкались. Промокшие до костей, едва держались на ногах и сомневались в своих силах, – если придется ехать еще далеко; утомление достигало крайних пределов. – Но вот Шалинская просека, вот и знаменитый некогда окоп, напоминающий о подвигах наших войск, о славном рыцаре Слепцове, так преждевременно сраженном вражьею пулей; вот следы ваших зимних трудов – чистое поле на местах некогда частого лесу; вот остаток сожженного сена; вот место, где 22-го декабря славно позавтракали… И, рождаясь одно за другим, понеслись воспоминания о лицах, бывших здесь тогда, о надеждах и мечтах волновавших нас в то время, и невольно повторялось: «свежо предание, а верится с трудом!…»
На реке Шавдон встретила нас колонна, часом раньше прибывшая из кр. Воздвиженской. Все думали – верно здесь остановимся. Но нет; – ждем далее, переходим р. Басс, тянемся топкими полями. Яркое солнце после дождя осветило дремучий лес на хребте Черных гор, озолотило верхи едва колыхавшейся кукурузы, за которою, на полях, показалась стройная масса неприятельской конницы, запестрели значки, игриво-волнуемые легким ветерком. Куда девалось утомление и желание отдыха! Забыта и ночь, проведенная на коне, забыты голод и жажда, – все уступило непонятной охоте поскорее сойтись с врагом и наказать его за дерзкий помысел встретить нас в открытом поле.
Сотни начали строиться в атаке; другие выскакали вперед; солдатики, перекрестясь, прибавили шагу. Разыгрывавшееся воображение уже рисовало картину лихой кавалерийской атаки; но, увы! После двух-трех картечных выстрелов, неприятель стал отступать и в несколько минут скрылся в лесу. Началась обыкновенная история: пехота заняла цепями опушку, орудия стали на позициях, резервы расположились за местными прикрытиями, кавалерия спешилась и, рассыпавшись по полям, шашками и кинжалами принялась уничтожать кукурузу, или «початки», выражаясь по-казачьи. – Перестрелка закипела по всей линии; грохот рассыпающейся по лесу картечи прерывался свистом неприятельских ядер, осыпавших нас комками грязи. Мы носились взад-вперед с приказаниями, завидуя некоторым счастливцам, расположившимся с запусками на барабанах.
В 4-м часу началось отступление. Пока преследующий нас неприятель мог прикрываться кустами, выстрелы не умолкали; но как только войска вышли на открытое поле, перестрелка утихла и кучки конных чеченцев разъезжали на благородной дистанции. В 6 часов мы возвратились на Шавдон, где застали пришедшую из Грозной пехоту и артиллерию. Отряд расположился бивуаками.
И так, мы пробыли около 20-ти часов на конях, почти не слезая; успели дальним обходным движением пройти без отдыха из Грозной к подножию Черных гор, прогнали неприятеля, собравшегося защищать свои поля, и истребили их совершенно.
13-го числа, отряд выступил из лагеря опять по тому же направлению. За р. Бассом чеченцы выстроили по обеим сторонам дороги две большие конные колонны, предполагая, что, внезапно завидя их, мы остановимся, начнем строиться, поджидать артиллерию и пехоту, а они воспользуются этим временем, задержать наш выход из кустов к переправе и нанесут нам большой урон. Но не так случилось. По первому крику ехавших впереди нескольких милиционеров, все бросились к переправе – и, одна за другою, понеслись 30 сотен казаков с криком ура! прямо на неприятеля. Ошеломленные такою неожиданностью, чеченцы, не сделав даже залпа, показали тыл, и шесть верст, до самого лесу, мы гнали их во весь карьер. Несколько человек тут же были схвачены. Таким образом, попытка неприятеля остановить нас была уничтожена, а колонна, занявпо вчерашнему опушки, прикрыла лежащие в тылу поля с кукурузой и просек. Чрез несколько часов исчезли следы посевов.
14-го числа, неприятель уже не выходил встречать нас в открытом поле. Убедившись, что им не воспрепятствовать достижении нашей цели, они старались нанести нам, по крайней мере, как можно больше вреда, и занимал каждый куст, каждую балку, весь день придерживали самую усиленную перестрелку. На ядра неприятель видимо скупился: он угощал нас точно по пословице: «чрез час по ложке». Отряд был разделен на две колонны; каждая обходила назначенное пространство засеянных полей, и истребив посевы, подвигалась далее. Неприятель, отстреливаясь, отступал; цепи бросались за ним с криком ура! выгоняли его из занимаемых позиций и беспрерывным огнем, поддержанным картечными выстрелами, не допускали его к опушкам. Изредка только несколько смельчаков подкрадывались к цели, делали залп, кто-нибудь из наших падал; но в тоже мгновение посылался громкий ответ картечей и штуцерных пуль, – глядишь: тащат одного-двух за ноги в чащу леса; еще залп, бросают ношу, и остается умирающий наездник, силясь повернуться на восток… Орудий неприятельских не видать; они ставят их в закрытых местах, недоступных для кавалерии. Только вдруг покажется дымок – «Братцы, он стреляет!» и вслед затем со свистом промчится над головами ядро, вопьется с глухим стоном в землю и пойдет рикошетом; а то врежется пред самою колонной в вспаханную землю, засыпая передних грязью, или ворвется в средину колонны, раздастся какой-то необъяснимо-неприятный звук. – «Кого там задело?» торопится всякий спросить. «Антерилицкую лошадь!» Слава Богу!… Одно ядро влетело в ехавшую за нами сотню Грозненских казаков, бывших в конвое у генерала; по звуку удара слышно было, что выстрел не обошелся без жертвы; невольно все обернулись. Но Всевышний видимо хранит рать православную: ядро вырвало двух лошадей в первом взводе; окружающих обдало кровью и внутренностями бедных животных; лошади шарахнулись в сторону, а седоки отделались падением, не получив даже контузии. «Вот те и серый!» сказал один, вставая, снял седло и отправился к обозу.
Странно, однако, есть не только отдельные лица, но даже целые части войск, которым ни одно дело, ни одна перестрелки даром не обойдутся. Не убьют, так ранят, а нет, то уж лошадям достанется. Из моих знакомых, некто войсковой старшина Ф. и майор М., храбрейшие люди, из каждого дела выходит с отметкой, – если не ранены, то с безногими лошадьми, или вовсе пешком; а теперь, к сожалению, оба ранены. Грозненская сотня тоже на это счастлива, иногда пустейшая перестрелка, а у них, глядишь, несут кого-нибудь, или два-три человека плетутся с седлами на плечах.
В этот день работа пошла с необыкновенным успехом. К 3-м часам пополудни, кругом на расстоянии не менее 10—12 квадр. верст, поля, накануне цветущие густым, полусозревшим хлебом, превратились в заброшенные пашни, не дождавшие посевов. Три небольшие аула, лежавшие у самого подножия Черных гор, преданы пламени.
Картина пожара была прекрасна и вполне достойна кисти Айвазовского. Необыкновенно яркое пламя камышевых крыш и хлебных копен отражалось на гигантских деревьях позади лежащего леса, окрашивая их в кирпичный цвет; рассыпанные по аулу люди казались какими-то тенями, бродящими в пламени; густой, желтоватый дым тяжелыми клубами окружал пожарище; выходившие из аула люди и лошади мгновенно исчезали в нем, как в бездне. Листья горящих деревьев кружились над всею картиной, как снег, падающий большими хлопьями; испуганные куры носились с печальным кудахтаньем над самым пламенем; поодаль от нас, над небольшим обрывом, стояли кучками конные и пешие чеченцы, перестреливаясь с цепями; треск горевшего камыша и хвороста прерывался выстрелами да шипением ракет, крестивших в разных направлениях воздух.
Приход отряда за Басс наделал немало тревоги в горах. Шамиль немедленно разослал ко всем наибам приказания – собираться скопищам к Веденю. Он боялся дальнейшего наступления отряда, грозившего окончательным истреблением всех посевов на плоскости, последствием чего был бы ничем неотвратимый голод. Но он уже опоздал. Мы успели кончить свое дело. Наибство Талгика осталось без хлеба; надежды на Джалканские запасы, снабжавшие всех непокорных, рушились с исходом нашей зимней экспедиции, и им остается теперь или голодать, или искать нашего покровительства и выселиться в покорные аулы, под стенами наших укреплений. Нет сомнения, что большинство так и сделает.
Сын Шамиля, Джемаль-Эддин, недавно возвратившийся на родину, уступил убеждениям отца и согласился жениться на дочери наиба Талгика, 15-ти летней, хорошенькой девочке. В день прихода отряда, из Веденя приехали за невестой шурин Талгика и другой какой-то приближенный к имаму человек. Сделалась тревога; они выехали посмотреть на нас и вмешались в толпу конных чеченцев. За это любопытство они расстилались самым плачевным образом: один убит наповал, другой, упав с убитой под ним лошади, повредил себе руку или ногу. Свадьба была отложена. После ухода наших войск, собравшиеся со всех сторон толпы простояли несколько дней на Бассе и разошлись. Неделю спустя, Джемаль-Эддин женился…
К вечеру мы возвратились в лагерь. Разлегшись на свежей скошенной траве, мы пили чай, курили, рассказывали впечатления и случайности наших дел с чеченцами, ожидая незатейливого ужина, и заранее мечтая об удовольствии, с каким до утра «зададим высыпку». Пробили повестку; грянул выстрел: граната умчалась едва светящейся точкой к неприятельской стороне, горнисты заиграли зорю; песенники пропели «Боже, царя храни» и «Отче наш», люди, крестясь, собирались ложиться спать, и мы уже думали последовать за ними, как вдруг барабанщик «ударил адъютантов». Что бы это значило? Какое приказание будет отдано в это время?… Так и есть, чрез час вся кавалерия с конными орудиями выступает с генералом, а пехота остается на своих местах. …На берегу реки мы отдохнули часа два, утолили нестерпимую жажду и пустились к Аргуну, по дороге в Грозную, до которой оставалось еще верст 25…
И так, поход кончен; идем домой, идем отдыхать. Пройдет день, другой; человек выспится, измятые кости придут в нормальное положение; окруженный некоторыми удобствами, забудет он и бессонницу, и утомление, и тревожные часы, проведенные на коне – среди опасностей; разве потрескавшиеся от загара губы, да большая кожа на лице помнят о нескольких днях движения в неприятельскую землю…
Даже весело, когда после таких трудов возвращаешься домой: бедная квартирка с разбитыми стеклами, не затворяющеюся дверью и скрипучим неровным полом, рисуется чуть ли дворцом. Чем ближе к дому, тем все приходит в более или менее веселое расположение духа, рассказывают очень забавные вещи, – и, смотря на эту массу вооруженных людей, нельзя как-то представить себе, что они, час тому назад, были лицом к лицу с неприятелем, стояли под его меткими выстрелами, рисковали каждый сложить свою голову или остаться без руки… Только стоны раненых, едущих в длинных транспортирных повозках, да переваленные поперек лошадей тела убитых казаков, у которых как-то весьма неприятно болтаются отвисшие руки, напоминают настоящее значение этой массы людей, умеющих с таким необыкновенным равнодушием смотреть в глаза смерти…
Смерклось. Лошади двигались медленным, убаюкивающим шагом. Сначала я только дремал, после стал засыпать, просыпаясь чрез каждые 5—6 шагов, и под конец совсем заснул, придерживаясь обеими руками за луку…