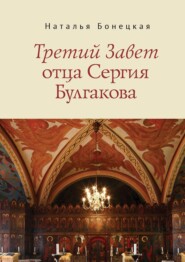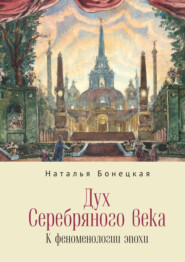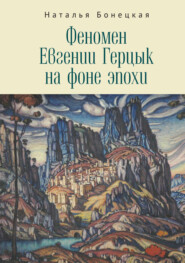По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русский храм. Очерки по церковной эстетике
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Мильоны – вас. Нас – тьмы и тьмы и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, –
С раскосыми и жадными очами!»
(А. Блок. «Скифы», 1918)
Евразийцы полагали, что отнюдь не восточные славяне, но туранские – монгольские племена своими военными походами объединили те территории, которые составили тело Российской империи. Но более того: поскольку «сожительство русских с туранцами проходит красной нитью через всю русскую историю»[115 - Трубецкой Н.С. О туранском элементе в русской культуре // Евразия, с. 81.], мы должны ощущать внутри самих себя этот «туранский элемент» – чувствовать себя «туранцами»… И здесь снова хочется вспомнить о совсем недавнем – и тоже, вне сомнения, многозначительном жесте российской власти. Весной 2000 года Путин посетил Башкирию – одну из азиатских автономных республик бывшего СССР. Посещение совпало с башкирским национальным праздником, в котором принял участие и российский президент. Праздничные мероприятия включали в себя разного рода старинные игры и соревнования, и некоторые из них, на взгляд европейца, выглядели несколько диковато. Одна из башкирских забав была такова. На стол поставили широкий и достаточно глубокий сосуд вроде таза, доверху наполненный кислым молоком. В сосуд бросили монету. Нимало не смущаясь наведенных на него десятков разнообразных объективов и, главное, словно не чувствуя никакого барьера перед варварским «спортом», президент России сунул голову в таз с простоквашей и через несколько секунд «вынырнул» оттуда с монетой в зубах… Не руководило ли при этом Путиным желание дать россиянам наглядный урок по раскрытию в себе, в собственной душе «туранского элемента»?..
Жёсткая рука власти
Евразийские доктрины отводят в развитии культуры ведущую роль государству. Это не должно нас удивлять: Россия обладает огромной территорией (география – ключевой фактор для евразийцев), а «освоение больших пространств – притом пространств степных и лесостепных – требует крепкой государственной организации, сильной и жесткой правительственной власти»[116 - Вернадский Г.В. Начертание русской истории // Евразия, с. 106.]. При этом прообразом евразийского государства для представителей данного направления является средневековая империя монголов; отсюда – противостояние евразийцев всякого рода сепаратизму и требование для России единодержавия, монархии. Евразийцы полагали, что сама логика существования России-Евразии ведет к возобладанию в ее политической жизни монархических тенденций. И с этим трудно не согласиться. После падения самодержавия в 1917 году на любом историческом витке в СССР возникало то, что стало именоваться культом личности, – идет ли речь о Ленине, Сталине или Брежневе. Мало что изменилось и в новейшее время: позднего Ельцина не без основания называли «царем Борисом», – он сам и его окружение именно так осознавали смысл фигуры российского президента. «Культ» же Путина, противопоставившего себя «демократам», стал складываться с самого начала его правления. Путинское «единодержавие», правда, подводят под тип не царской монархии, а диктатуры.
И здесь снова хочется обратиться к идеям евразийцев. «Устойчивая евразийская форма государства и власти, – утверждает Г. Вернадский, – это форма военной империи»[117 - Там же. С. 107.]. Таковы были империи монголов, Московское царство и Российская империя Петербургского периода; это не говоря уже об СССР, также евразийском государственном образовании. И в том, что в нынешней России милитаризация пошла полным ходом, снова обнаруживается не столько чья-то личная воля, сколько неотвратимая евразийская логика. Евразийцы сконструированный ими образ России-Евразии выдвигают в качестве идеала ее грядущего развития, и это страшно. Но в меткости ряда выводов евразийцам отказать трудно. Не впадая в фатализм, российские правители должны были бы противостоять тяжелым и почти роковым евразийским тенденциям. Вместо этого они предпочитают плыть по течению, сознательно потворствуя пагубным древним инстинктам.
Вообще, идеи евразийцев о сильном централизованном государстве в путинской России весьма быстро воплощаются в жизнь. Собственно и к власти Путин пришел как политик, делающий ставку именно на государственность: в глазах современного россиянина, хаосу, царящему в стране, можно противопоставить лишь государственное принуждение. Став президентом, Путин очень скоро свел к минимуму власть губернаторов, послав в регионы собственных полномочных представителей; соответственно, была фактически упразднена верхняя палата Думы. Мало-помалу на наших глазах складывается путинское единовластие. Но остается ключевой, самый щекотливый вопрос об имидже самого Путина. Кто же он все-таки? царь или диктатор типа Пиночета? Путину еще предстоит пройти большое расстояние от рядового, безликого офицера госбезопасности (этот несколько зловещий образ, надо думать, созвучный личности Путина, до сих пор сохраняется в сознании многих людей в России) до солидной, органически усвоившей всю атрибутику власти фигуры. Думается, и сам Путин ныне пребывает в поисках образа, который бы соответствовал роли, нежданно-негаданно свалившейся на него, – роли единовластного правителя огромной страны.
Взгляд евразийцев на носителя верховной власти в России двойственен. С одной стороны, как выше говорилось, с образованием и развитием евразийской державы они связывают фигуру Чингисхана, восточного деспота. С другой – в их сочинениях порой возрождается именно русская мечта о христианском правителе, святом князе, несущем тяжелый крест власти и готовом к мученичеству за Христа[118 - Обе фигуры взяты из средневековой истории и прототипичны.]. В воззрениях евразийцев сосуществуют прагматизм и мистицизм. Так, им не чужда вера в то, что благоденствие государства зависит от благочестия или пороков князя. И вновь обратим взгляд на современную Россию. Пресловутая «загадочность» Путина – предпосылка к формированию в народном сознании путинского мифа. В частности, в прессе мелькают сообщения, а в народе говорят о том, что Путин – православный христианин, что его духовник – настоятель одного из монастырей в центре Москвы, что президент – глубокий, подлинный верующий…
Здесь конец наших заметок смыкается с их началом, где был поставлен вопрос, почему посткоммунистическая российская власть столь охотно поддержала восстановление храма Христа Спасителя. Неслучайно окончание реставрационных работ совпало со вступлением Путина в должность президента: облик тоновского храма созвучен той евразийской идее, которую новый президент начал проводить в жизнь и которая, как можно предположить, в недалеком будущем оформится в официальную идеологию российского государства. Тоновский храм – символ православной империи; когда в российском общественном сознании советская тенденция уступит место тенденции евразийской, центральный храм Москвы вновь окажется символом русского духа. Весь вопрос сейчас в том, насколько евразийская идеология будет тотальной. Если дело дойдет до того, что изобретут механизм контроля над сокровенной жизнью души, то христианам делать в подобном социуме будет совсем уж нечего.
8 декабря 2000 г., Москва
Образ Триединства
Наша вера трудна, Царствие Божие усилием берется. Как и прочие евангельские истины, этот императив имеет в Новом Завете антитезис – «легкость» бремени Христа. Однако евангельская «легкость» далека от нашей житейской расслабленности. Чтобы хоть немного приобщиться к ней, надо прежде решиться на важнейшее – на взятие своего креста. Если не познать его тяжести, не ощутишь ее чудесного исчезновения. Чувство Божественной поддержки – когда Кто-то подставляет Свое плечо под твой крест, как Симон Киринеянин помогал Спасителю, идущему на Голгофу, – это ощущение столь глубинное, что оно едва различимо за слоями душевной эмпирики. .. Но не об этой трудности крестоношения будет здесь идти речь. Вспоминаем мы о ней потому, что это наиболее очевидная трудность христианства, и начинаем мы с нее эти заметки, чтобы сразу мысленно войти в атмосферу духовного труда – усилий, кажущихся непреодолимыми, выводящих однако, как мы веруем, в область нетварного. Та трудность и тот труд, о которых мы станем рассуждать – это трудность обращения к Богу, труд искания Бога. Такова насущная проблема для каждой души, вопрос христианской жизни и неформальной, действенной молитвы.
Трудность нашей веры скрыта в самой ее сути, в ее сердце, которое есть не что иное, как догмат о Святой Троице. Трудность эта многопланова. Не один век потратила христианская мысль, чтобы облечь идею Троицы в рациональную форму – преодолеть субординационизм, монархизм и прочие уклонения в вопросе о троичности Бога, выработать термин «единосущие», разобраться в отношениях Бога и тварного мира. Лишь к ХIV веку тринитарная догматическая система была завершена. Для современного мало-мальски тренированного в философии ума эта система в видимости не являет принципиальных трудностей. Никейская и паламитская диалектика постигается без особых усилий при нашем знакомстве с диалектикой греческой и германской. Тонкости индивидуального мышления философов подготавливают к усвоению монументальных догматических – соборных положений. Так что проблема 3?1 – проблема Троицы-Единицы, не является чем-то особенным для знакомых с Платоном и Аристотелем. Однако догматика – это лишь один полюс веры; другой же полюс – это мистика, реальное созерцание. И о нем мы тоже только упомянем, чтобы больше к этому не возвращаться. Тот опыт, для которого «Свет Отец, Свет Сын, Свет и Святой Дух» – с его реализмом и достоверностью, останется вне нашего рассмотрения. Наше сфера церковность, причем «экзотерическая», – область профанов, новоначальных в христианстве, та ступень, которую тем не менее перепрыгнуть невозможно. Именно с этой позиции новоначального мы начнем говорить о трудности Троичного догмата. Новоначальный более ли менее ориентируется в диалектике Триединства, принимает на веру истину о трех Светах. В чем тогда для него заключена трудность? Она не метафизического, а так сказать, экзистенциального порядка. Это тоже проблема 3?1 – проблема единого Существа и трех Личностей, но не в аспекте онтологии (рассматриваемом догматикой), а в аспекте экзистенции – «диалога» человека с Богом, молитвы.
В самом деле. Множество раз мы повторяем за богослужением слова: «Господи, помилуй». Это простейшая молитва, в которой однако содержится сама суть отношений Бога и христианина. В ней – сознание человеком собственного греха, смирение и покаяние, – то, что приближает человека к Богу. «Господи, помилуй» – содержание любой, самой сложной церковной молитвы, гимнов и канонов, а также сущность любого церковного таинства и самой Евхаристии. Данное обращение стало формулой, а соединенное с ним чувство смирения – рефлекторной реакцией. Однако вдумаемся в эти слова. Обращаться можно только к лицу; к какому же конкретно Божественному Лицу мы обращаемся, произнося молитвенную формулу? К одной из Личностей – Отцу, Сыну, Духу, или…? Как ответить на этот вопрос?
Берем обычный конец ектеньи – например, литургической: «Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу… и весь живот наш Христу Богу предадим», – «Тебе, Господи». Значит, предыдущее «Господи, помилуй» относилось к «Христу Богу»? Но последующий возглас иерея называет другое Божественное Имя: «Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков». И это Имя Пресвятой Троицы, – то же самое, что и в крещальной формуле: «Во Имя Отца и Сына и Святого Духа». «Господи, помилуй» относилось непременно и к Троице, хотя также и ко Христу – в силу Его единосущия Отцу и Духу. Итак, говоря «Господи, помилуй» и вообще, используя любую церковную молитву, содержащую обращение «Господи», «Боже», мы непременно обращаемся к Богу Троице. Вся наша молитвенная жизнь устремлена к Триипостасному Божеству, ибо если мы и молимся собственно Отцу, или собственно Сыну, или Духу как таковому, мы созерцаем Божественную Ипостась не обособленно, не как отдельное Божество (не три бога, но один Бог: вот столп христианской веры), но внутри Триединства. Божественная Троица всегда предстоит нашему созерцанию и очень часто выступает как адресат нашего молитвенного обращения. Именно Троица – христианский Бог, «Ты» наших молитв.
Но как почувствовать это «Ты» в Его Триипостасном Единстве? как удержать, актом обращения, три Лица в одном Существе? как, обращаясь к каждому из трех, взывать при этом к целокупному Одному? как воспринять слова «Отец, Сын, Дух» не в качестве последовательности трех Имен, но как одно «пречестное и великолепое» Имя? Простейшее, что требуется от христианина – молитвенное переживание Бога как «Ты»[119 - Именно это переживание, в его экзистенциальности, отличает верующего от «философов и ученых» (Паскаль) с их чисто метафизическим Богом.], чревато неизбежным бессознательным еретичеством: трехбожием, если Имя в акте обращения подменяется тремя Именами, или чем-то вроде социнианства в том случае, когда Божественное Существо мысленно воипостазируется в одну Личность. Возможно, что такие психологические аберрации, практически безвредные на уровне профанных молитвословий, при созерцательной – духовной молитве обнаруживают свою коренную ложь и приводят к прелестным состояниям.
Почему в молитве Троице так велика опасность ереси, почему обращение к Триединому Божеству столь трудно? Причина этого в том, что бытие триипостасного Существа не имеет себе аналогов в мире тварном. Человеку присущ только один экзистенциальный центр (термин Н. Бердяева), его «я» принципиально единственное. Всякие отклонения от закона единственности экзистенциального центра в случае человека являются патологиями – психиатрического (раздвоение личности) либо духовного (одержание, беснование) порядков. Поэтому говоря другому «ты», т.е. переживая другого как иное «я», мы обращены к этому единственному экзистенциальному центру нашего ближнего. Свободное существо в тварном мире воспринимается либо как «я» (изнутри себе), либо как «ты», т.е. «я» другого человека. Осознание и ощущение этого закона – наша глубочайшая повседневная привычка. Но на Бога этот земной закон не распространяется. Бог переживает Себя как «Мы» (при сотворении человека, согласно книге Бытия) – как некую экзистенциальную множественность; Бог есть Дух – но этот Дух, в отличие от духа человеческого, существует в трех Лицах. Божественное Бытие не подчиняется закону единственности экзистенциального центра, который в мире тварном не имеет исключений: у Бога три «экзистенциальных центра», три Лица. Бог для Себя – это «Мы»; но для нас Бог – «Ты»; как это примирить? Данная проблема жизненно встает перед нами при общении с Богом, в ситуации молитвы. Мы принимаем на веру полуусловные термины «нерожденности», «рождения» и «исхождения» для характеристики трех Ипостасей Троицы. Но как пережить это трехличностное Единство в живом молитвенном опыте? Ведь никакого четвертого – «объединяющего», «главного» экзистенциального центра, кроме «центров» трех Ипостасей, у нашего Бога нет; Он – принципиальнейшим образом «Мы», но не «Я». И здесь для молящегося неодолимая преграда, экзистенциальный барьер на пути к Божеству.
Бога и тварь разделяет онтологическая пропасть; молитва – это дерзновенный прыжок через нее. Как представить себе нетварное, внеобразное, чисто духовное? Ведь чтобы обратиться, надо иметь хоть малейшее представление о Том, к Кому обращаешься, надо чувствовать Его хоть слабым, но живым чувством… Проще всего здесь опыт платоновского трансцендирования – мысленное перенесение Божества в некую «занебесную сферу» (ср. диалог Платона «Федр»), каким-то особым, но все же пространственным образом отделенную от земного плана. Близка платонизму идея четвертого измерения, дополняющего эвклидовскую трехмерность мира: четвертая координата соответствует миру духовному, в котором обитает Бог. Модель пространства с четырьмя измерениями точнее, чем мифологический платоновский космос, отражает факт запредельности Бога: ведь четвертое измерение эвклидову человеческому уму помыслить невозможно. Естественное желание человека представить себе Божество – или хотя бы место Его обитания, дабы направлять туда интенции своего ума и сердца – порождает модели, в которых Бог – созерцаемый извне объект, «Он», но никак не «Ты». И здесь та ошибка, та психологическая аберрация, от которой предостерегали свв. отцы. Не следует пытаться создать в уме некий образ Бога, пользуясь хотя бы и абстрактными (взятыми, к примеру, из области высшей алгебры) представлениями. Делая это, мы творим себе кумира – ставим на место Бога созданный нами же самими призрак, и молимся этому призраку. И если для молитвы новоначального эта подмена неочевидна, то высокие молитвенные созерцания обнаруживают правду свидетельства древних. Созданный человеческим воображением «кумир» обладает реальностью, хотя и фантомной. Так что молитва фантазирующего человека идет мимо Бога к предмету его фантазии, в чем и заключена опасность всякого воображения.
Но как же нам быть? По-видимому, о Боге допустимо высказываться только в модусе «Ты», но не в третьем грамматическом лице – не в модусе «Он». Когда Бога пытаются познать посредством внешнего созерцания (что и означает модус «Он») – так, как мы познаем предмет неодушевленный и непроницаемый, то это допустимо только через апофатический механизм. Приписывая Богу те или иные предикаты, заимствованные из мира тварного (как например, могущество, благость, – наконец само бытие), апофатически настроенный разум немедленно отрицает их как неистинные, не отвечающие в действительности нетварной природе Бога. На подобном пути отрицаний рационалистический ум в конце концов умолкает, уступая место мистическому восхождению. Об этом писали христианские платоники, – например, Николай из Кузы. Саму суть такого скачка в богопознании можно определить следующим образом: человек прекращает мыслить Бога предметно и начинает переживать Его как «Ты», т.е. обращаться к Нему. Внешнее созерцание, исчерпав себя, переходит в молитву. Человек, знающий только Бога «философов и ученых», открывает для себя живого Бога Библии и Церкви.
И в этом опыте молитвенного обращения обнаруживается трансцендентность Бога. Помня лишь то, что Бог – это ТроицаЕдиница, мы, имея только посюсторонний опыт общения, просто не будем в силах обратиться к Нему – Триипостасному Божеству, экзистенциально пережить нашу молитву, почувствовав реальную встречу. Мы будем блуждать от одной Ипостаси к другой, тщетно стремясь в своем обращении охватить все три. Или же, созерцая «Единицу», мы потеряем конкретность каждой Ипостаси и станем мыслить о Троице как о некоем едином «Я»[120 - Тем самым христианская Божественная Троица будет подменена ветхозаветным единым Божественным Субъектом, открывшим Себя при Хориве и Синае Моисею с именем Яхве («Я есть Сущий»), т.е. заявившим о Себе как раз как о Субъекте – «Я». Такое тождество Св. Троицы и Бога Синайского откровения стремился обосновать софиолог о. Сергий Булгаков. Об этом говорится в моей книге «Третий Завет о. Сергия Булгакова». Проект Булгакова, на мой взгляд, весьма спорен – иудейский и христианский способы богопочитания на сегодняшний день сильно разнятся (Прим. автора от 2023 г.).]. И эта мука, бесплодные душевные усилия абсолютно закономерны. Более того, они – необходимый момент нашего молитвенного опыта, будучи признаком того, что мы пытаемся пробиться действительно к Нетварному и наша молитва по крайней мере имеет верное направление. Подобная молитва – по видимости бессильная и бесплодная – в действительности несравненно продуктивнее молитвы с воображением, диалога с фантомом, какими бы «высокими» состояниями такой диалог ни сопровождался. – А что же дальше? Толкайте, стучите – и отворят вам; усилия праведные не могут остаться без плода, – но для этого должны исполниться времена и сроки.
Жизнь христианина – это познавание Пресвятой Троицы, непрекращающееся искание Триипостасного Бога, постоянное богословствование. Под богословствованием мы понимаем труд стяжания сердечного знания Бога, что всегда сопровождает нашу молитву. Как раз об этом писал о. Павел Флоренский, замечая. что между богословствованием и геенной нет зазора хотя бы в один волос: «Или поиски Троицы, или умирание в безумии» («Столп и утверждение Истины»). Когда мы, читая Трисвятое, говорим «Пресвятая Троице, помилуй нас», в нас совершается эта работа богословствования; когда Симеон Новый Богослов созерцает три Света, он тоже богословствует. Начальная стадия богопознания – это движение ума в чисто абстрактной словесной сфере, отвлеченной от каких бы то ни было образных представлений. Однако здесь новоначальному приходит на ум правомерное сомнение. Он говорит следующее. Я принимаю то, что «Бога человеком невозможно видети», как поет Церковь в одном из ирмосов 6-го гласа, мирюсь с этим и не пытаюсь представить себе Божественную Троицу. Но будет ли моя молитва к Ней до конца добросовестной, если я просто, как попугай, скажу: «Пресвятая Троице, помилуй нас»? А ведь мне ничего другого и не остается, поскольку я не знаю Адресата моей молитвы, – мое экзистенциальное чувство другого – чувство «Ты», не способно охватить три Лица в одном Существе[121 - Хочется подчеркнуть, что знания – даже и самого досконального – тройческой догматики недостаточно для обращения к Св. Троице. И здесь разница метафизического и экзистенциального модусов Божества – «Бога философов и ученых» и Бога Библии и Церкви. Чтобы обратиться к Богу, нужно, сверх догматических знаний, обладать неким сердечным «знанием» Его – в модусе не сущности (область метафизики), но существования (сфера экзистенции). Молитвенное произнесение Имени Бога есть не просто именование, но сознательное и волевое устремление энергии обращения к его Адресату. Славянский язык сохранил эти принципиальные оттенки значения: именительный падеж соответствует метафизике, звательный – экзистенции. Совсем разные духовные и смысловые импульсы стоят, например, за формами «Троица» и «Троице». Первая из них лишена специального оттенка обращения и соответствует знанию догматическому, сфере метафизики. Вторая же предполагает интуитивное ощущение Существа в трех Лицах. И правильному переживанию именно второй формы помогает икона Св. Троицы преподобного Андрея Рублёва. Она сообщает человеку априорное (до-молитвенное) представление о Боге как раз в модусе Его экзистенциальности – также обращенности к человеку.]. Жизнь научила меня единовременному общению с одним-единственным человеком, диалогу, – в молитве же я обязан обратиться сразу к трем Лицам… И вот, Церковь приходит на помощь этой естественной ограниченности человека.
Святые отцы отрицают молитву с воображением; однако православному молитвенному опыту не только дозволяется, но и предписывается использование некоторых изображений – а именно, икон. Психология и онтология молитвы перед иконой, «восхождения от образа к Первообразу», насколько можно судить, никогда теоретически не исследовались. Церковь утверждает, что функция иконы – это напоминание; но такое слово Церкви нельзя понимать поверхностно психологически. Общение с иконой – это целая лестница внутренних состояний человека. Прежде всего священный сюжет или лик отвлекают нас от житейского, переориентируют наши умственные и сердечные интенции, – но это лишь начало воспоминания. Икона задает первоначальный толчок движению нашего внутреннего существа; затем включается инерция – длящееся созерцание иконы только слегка корректирует это самодвижение. Поэтому так важна «правильность» иконы, определенное ее соответствие небесному Первообразу. Ибо только эта иконная подлинность обеспечит то, что движение человеческого сознания, в его поисках Первообраза, устремится по верному пути. Икона призвана помочь воспоминанию – воспоминанию истины, скрытой в душе человека под корой эмпирики и греха, но не окончательно утраченной. Религиозное знание (в отличие от любого другого – например, естественнонаучного) обладает той особенностью, что оно не приобретается душой человека, но актуализируется в ней. Процесс постижения религиозных истин отчетливо переживается как припоминание, поднятие в светлую область сознания того, что ранее пребывало сокровенно в глубине души. И напоминательным действием оказывается не только церковный образ, но и слово проповеди, звучание колокола или хора, облик храма, вид священнослужителя, – говоря коротко, любой церковный символ. Нам изначально присуще знание Бога, и наша религиозная жизнь призвана лишь оживить и развить это знание.
Итак, сердечное и умное созерцание – начальная стадия общения с иконой – ведет к узнаванию забытого лика. И когда этот процесс достигает цели, созерцание тотчас же переходит в молитву, внешнее вглядывание – в обращение. Это тот самый момент, когда от «образа» сознание совершает скачок к реальному, живому «Первообразу». Прекращается лицезрение «образа», и начинается диалог с «Первообразом» – с живыми Спасителем, Пресвятой Девой, святыми. Происходит отрыв внимания человека от иконной доски, – но не только от нее, а также от земного (быть может, и от тварного) плана бытия. Данный момент – важнейший для человека, и не только в силу того, что происходит онтологическая переориентация его ума и сердца: не менее важно изменение его экзистенциальной установки. Икона, до данного ключевого момента развития созерцания, переживается человеком преимущественно с ее вещественной стороны – изобразительности, символичности. В указанный же решающий момент происходит как бы ее преображение: в глубине символа обнаруживается жизнь, фигуры на иконе оживают. Живую же личность нельзя созерцать: к ней можно только обращаться. Это превращение мгновенно, как блеск молнии. Таков скачок от «Он» или «Она» к «Ты», начало нового, молитвенного этапа предстояния иконе. Если первый – созерцательный этап есть этап незнания, сердечной слепоты, то молитвенный диалог, начавшийся с момента узнавания, это уже не блуждание в потемках, но углубляющийся процесс познания. В первое мгновение встречи с Первообразом перед человеческим сознанием открывается новая глубочайшая перспектива: ведь подобная близость предела не имеет, и восхождение к Первообразу бесконечно. В этом восхождении, познании-любви, человеческая личность постепенно сама преображается, вбирая в себя благодатные энергии Первообраза. Теперь уже сам Первообраз ведет ее по лестнице платоновского восхождения…
* * *
Икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублёвым, является чудотворной. Это значит, что художнику удалось средствами иконописи создать такой образ, который есть подлинный символ Первообраза (т.е. Триипостасного Бога), иначе говоря – духовное существо которого действительно причастно Первообразу[122 - Любой художественный образ (например, литературный герой) в определенном смысле реален: с ним, в одном из планов бытия, сопряжено некое духовное существо. Это существо вступает в реальное взаимодействие как с автором, так и с реципиентом произведения искусства. Здесь – объяснение воздействия произведения на души людей. Художник является творцом в полном смысле этого слова: он творит собственный мир, уподобляясь тем самым Богу. Однако этот мир призрачен и обладает меньшей степенью реальности, чем мир действительный. Потому человеческое творчество метафизически ниже Божественного.]. Вспомнив все только что сказанное о процессе восхождения от образа к Первообразу, можно сказать, что «чудотворность» состоит в легкости такого перехода и быстром, а главное, точном установлении молитвенной связи с Ним. Это необходимое условие любого будущего чуда от иконы, самой по себе тоже чудесной. Образ Святой Троицы был создан преподобным Андреем по благословению преп. Никона, «в похвалу Сергию-чудотворцу»; в нем, как в фокусе, собралось всё содержание духовного дела преподобного Сергия. И данное содержание есть не что иное, как знание Св. Троицы, – высочайшее знание, которого может достичь человек[123 - См.: Позов А. Логос-медитация древней Церкви, с. 132.]. Этот сокровеннейший и интимный опыт избранника, «ученика» Св. Троицы, таинство, засвидетельствованное тем влиянием, которое подвиг преподобного Сергия оказал и оказывает на бытие России[124 - См.: Флоренский П.А. Троице-Сергиева Лавра и Россия, 1919 г.], – эти высочайшие молитвенные созерцания были, художеством преподобного Андрея, низведены на землю, аполлонически заключены в образ трапезы у дуба Мамврийского. Чудотворность ионы проистекает от чистоты и духовной точности «низведения», сохранившего суть Сергиева созерцания. Преподобный Андрей – причастник опыта Сергия, в какой-то мере сотаинник великого святого. И через его иконы, прежде всего икону Св. Троицы, тройческие энергии, тройческое знание – Сам Бог Троица – входили в русскую жизнь, освящая и просвещая ее. Ток благодати проходил через души людей, молившихся рублёвским иконам. Ведь если икона адекватно низводит некую духовную реальность, то она обладает и силою возводящей, является лестницей для восхождения души к Богу. Образ, созданный преподобным Андреем, чудотворен, ибо через его посредство русский человек становился причастником Сергиева знания Св. Троицы. И освящение, по каналам человеческих душ, распространялось на всю русскую жизнь.
Для новоначального тайна Троицы предстает со своей экзистенциальной стороны – как тайна общения с Существом в трех Лицах[125 - В многочисленных текстах Троичных Триоди (например, Троичных канонов Андрея Критского) мы находим, наряду с указанием на Божественную тайну, постоянное педалирование этой экзистенциальной антиномии единого Существа и трех Лиц.]. У такого общения нет аналогий в тварном мире, и уже само усилие молитвенного обращения к Триипостасной Божественной Единице выводит ум молящегося на границу тварного и Нетварного. Здесь сознание наталкивается на стену: Божество обнаруживает Свою неприступность, и в распоряжении человека остается лишь сухое, мертвое слово «Пресвятая Троице, помилуй нас». Но в тот же самый момент Церковь дает человеку благодатное утешение – икону Св.Троицы. От нее к человеку приходит весть из сферы запредельной, подобная мимолетному дуновению. Для немощного созерцателя в иконе совершается откровение Триипостасного Бога. Суть этого откровения в том, что человек обретает интуицию Трехличностного Божества, а это – залог ведения Св. Троицы. Преодолением экзистенциальной антиномии 3?1 – мгновенным приобщением к тайне Троичности для христианина начинается живое молитвенное общение с Триединым Богом, адекватный символический образ которого явлен иконой преподобного Андрея.
Размышлять о Св. Троице новоначальному лучше всего, отправляясь от этой великой рублёвской иконы. Почему так? Почему, действительно, для предстоящего ей отдергивается завеса, скрывающая ноуменальный мир (по выражению о. Павла Флоренского)? Почему икона доносит до нас дыхание Нетварного? Потому, что на иконе на самом деле изображено единое Существо в трех Лицах, Триипостасная Единица, единосущная и нераздельная Троица. Над иконным изображением не властен тот закон экзистенциального центра, который царит в мире тварном и по которому, если у существа есть экзистенциальный центр, то он единственен. Мы видим на иконе три ангельских Лица – но при этом можем обратиться к иконному Прообразу как к одному Существу. Потому, благодаря иконе, мы можем переживать этот Прообраз как Божественное «Ты».
Икона преподобного Андрея помогает нашему обращению к Богу, будучи образом Триединства. Она правильно организует молитвенное состояние нашего ума. Наши молитвенные интенции – обращения к трем Ипостасям она собирает воедино, но в этом едином молитвенном устремлении сохраняются импульсы, направленные к каждому Лицу[126 - Решимся упомянуть о таком наблюдении: молитвенный импульс предстоящего иконе направлен в точку, находящуюся примерно в области сердца среднего Ангела и являющуюся одновременно геометрическим центром прямоугольного иконного ковчежца. Это факт чисто опытный, вряд ли нуждающийся в объяснении.]. Молитва «Пресвятая Троице, помилуй нас» (равно как и прочие тройческие молитвы) обретает важное качество: наше сердечное движение направлено к Единому Богу – и при этом, в том же самом акте устремлено к каждой Ипостаси. Дело здесь не в психологии: не то важно, что молиться перед иконой в определенном смысле удобнее. Имеет значение не душевный комфорт, а то, что молитвенное устремление иконным изображением действительно выводится за пределы твари и направляется к Богу. Переживание единого Божественного Существа в трех Лицах поднимает человеческую душу над миром. Заслуга преподобного Андрея в том, что он – символически, разумеется, сумел изобразить Триипостасную Единицу. И смысл этого символа – единство жизни трех Личностей.
Поскольку Бог в Его глубочайшем модусе тройческого в-Себе-пребывания неизобразим, сразу же после богословского оформления тринитарных представлений (Никейский собор) иконопись выработала символ, указывающий на тайну тройческого Единосущия. Основой этого символа стал ветхозаветный сюжет посещения Авраама тремя странниками. В подобных иконах присутствуют два момента – исторический (прообразовательный) и ноуменальный. Но вот, в рублевском образе Св. Троицы исторический момент сведен к минимуму и на первый план выдвинута онтология[127 - См. об этом в «Иконостасе» о. Павла Флоренского.]. Совсем не обязательно помнить в деталях библейский эпизод для того, чтобы молиться перед иконой преп. Андрея. Этот образ «ближе» к Божественному Первообразу, нежели исторические по преимуществу иконы – с Авраамом и Саррой, прислугой, жертвенным животным и прочими реалиями библейской истории. В ветхозаветной композиции преп. Андрей выделил ее новозаветный смысл, передав средствами иконописи христианское понимание Божественной Троицы.
Икона Св. Троицы преп. Андрея замечательна глубиной своего содержания: в ней – целая иерархия смыслов. И если один конец этого смыслового спектра – факт прихода странников к Аврааму, а другой – в-Себе-бытие Божественной Троицы, то между ними выделяется смысловой уровень, который определяет художественное содержание изображения. Первый смысловой полюс соответствует истории, второй – онтологии; лежащий же между этими полюсами смысл – важнейший для понимания художественности иконы, можно было бы назвать церковным. Хочется настойчиво подчеркнуть: икона Св. Троицы глубоко церковна.
Этот факт, вроде бы очевиднейший, очевиден на самом деле далеко не для всех. Как известно, в начале ХХ века икону Св. Троицы освободили от оклада и подвергли расчистке и реставрации. В связи именно с этим начались исследования иконы, осмысление ее. Однако икона в этих исследованиях переживалась не как предмет церковного почитания – не как молитвенное изображение, но просто как произведение искусства. Исследователи словно подготавливали кощунственное перемещение иконы в музей в 20-е годы. Они как будто не желали принимать во внимание того, что икона писалась, дабы люди перед ней молились, причем особенно усердно – в день праздника Троицы, Святой Пятидесятницы. За большинством научных исследований иконы стоит опыт внешнего созерцания, и почти никогда – молитвы. Смысл иконы искали, лишь всматриваясь в нее, но не молясь перед ней. По хорошей, полной антологии Г.И. Вздорнова «Троица Андрея Рублёва» (М., 1981) можно судить о направлениях исследования иконы в советское время, а также об опыте переживания этого образа целым рядом лиц. И лишь в немногих работах – только у П. Флоренского, Е. Трубецкого, В. Щепкина – нет этого неприятного и высокомерного духа сторонней созерцательности – напряженного стремления своими усилиями проникнуть в существо иконы. И дело не в том, что советское издание – мало пригодное место для разговора о молитве, что авторы статей просто заменяют слово «молитва» словом «созерцание»: нет, искусствоведы действительно подразумевают не молитву, а созерцание, когда глубоко, со знанием дела ообсуждают шедевр иконописи. Вот ряд таких характерных суждений. «…Ангелы, погруженные в созерцание, не общаются с предстоящим, оставляя его свободным, принадлежащим самому себе»; «Благодаря удивительной мудрости и такту художника моменты созерцания и самосозерцания сосуществуют у зрителя (подчеркнуто нами. – Н.Б.) перед Троицей в гармоническом единстве, способствуя взаимному углублению друг друга»: Н.А. Дёмина, автор этих строк, порой настаивает на неответчивости иконы. «В иконе Рублёва, созданной для длительного созерцания (подчеркнуто нами. – Н.Б.), нет ни движения, ни действия»; «В ней есть что-то успокаивающее, ласковое, располагающее к длительному и пристальному созерцанию. Перед Троицей хочется «единствовати и безмолствовати», она заставляет усиленно работать нашу фантазию, она вызывает сотни поэтических и музыкальных ассоциаций»: здесь откровенное и точное выражение чисто эстетического подхода к иконе В.Н. Лазарева. Этому стремлению понять икону через свои душевные («поэтические и музыкальные») ассоциации, взять ее приступом, напором своей умственной воли так отрадно противостоит смиренный и глубокий опыт общения с иконой недавно скончавшегося владыки Сергия Голубцова – опыт молитвенника и иконописца. Пускай его статья о Св. Троице (см. Богословские труды, №22) стилистически менее эффектна, нежели работы искусствоведов; на наш взгляд, в нижеприводимой цитате из нее истины больше, чем в фундаментальных секулярных исследованиях: «Язык художественных произведений весьма субъективно усваивается каждой человеческой личностью. Условность художественного выражения в древнерусском образе делает его еще более трудным для усвоения. А. Шопенгауэру принадлежит замечательно верное изречение, что «к великим произведениям живописи нужно относиться как к высочайшим особам. Было бы дерзостью, если бы мы сами первые с ними заговорили, вместо того нужно почтительно стоять перед ними и ждать, пока они удостоят нас с ними заговорить». По отношению к иконе это изречение сугубо верно именно потому, что икона – больше чем искусство. «Ждать, чтобы она с нами сама заговорила, приходится долго, в особенности ввиду того огромного расстояния, которое нас от нее отделяет» – говорит по этому поводу Е.Н. Трубецкой».
Продолжая рассмотрение искусствоведческих воззрений на икону, приведем высказывание М.В. Алпатова, больше других писавшего о прославленном образе: «Новым у Рублёва было то, что само изображение силою рождаемых им зрительных впечатлений помогало человеку проникнуть в недра того, что оно в себе таило. Новый подход к искусству создателя Троицы, видимо, произвел на современников сильнейшее впечатление. Ведь это означало, что он обращался к иконам не с молитвой, не прикладывался к ним, как набожные люди, но любовался ими и ценил их как произведения искусства. И вместе с тем через созерцание он возносился своими мыслями к «горнему». Такой созерцательный подход к искусству был подготовлен тем, что исихасты, а впоследствии Нил Сорский называли «умной молитвой». Зрительное восприятие произведения искусства предполагало и обращение человека к себе, его чуткость к потоку своих мыслей, чувств и воспоминаний» (всюду подчеркнуто нами. – Н.Б.). Главная ложь концепции М.В. Алпатова не в приравнивании иконы к произведению искусства (примитивный конъюнктурный жест), не в путанице молитвы и «потока мыслей, чувств и воспоминаний», свидетельствующей просто о незнании автором азов молитвенной аскетики, и даже не в клевете на преподобного Андрея, который писал икону якобы не для примитивных «набожных людей». Самый опасный яд вышеприведенной выдержки в том, что она постулирует: к «горнему» возносятся не через молитву, но через созерцание, – причем здесь М.В. Алпатов привлекает себе в союзники исихастов. Утверждая это, искусствовед выступает с воинствующей антицерковной позиции, намекая к тому же, что в лице исихастов он имеет влиятельных союзников. Между тем, подвиг исихастов молитвенный, а не созерцательно-теософский. Ведь если бы они предавались созерцательной медитации, углубляясь в Божественное Имя, они повторяли бы просто «Господи Иисусе Христе», не добавляя «помилуй мя, грешного». Иисусова молитва – это покаяние, а не медитация, почему она и эквивалентна, например, псалмопению. В такой, казалось бы, маленькой семантической разнице молитвы и созерцания раскрывается пропасть, разделяющая два мировоззрения – церковное и гностическое. Умственное движение в России в начале ХХ века отличалось болезненным интересом к гносису; это наложило отпечаток и на интерпретации иконы Св. Троицы. Гностицизм, как представляется – несравненно более серьезный враг церковности, чем атеизм… Идеи Н.М. Щекотова доводят до конца теософические тенденции антологии Г.И. Вздорнова. Этот исследователь уже прямо утверждает, что Троица – не икона, так как «она далека от церковного богослужения» (?!); молиться ей надо свободной – нецерковной молитвой. И из опыта такого «нецерковного» общения с иконой искусствовед заключает, что лики рублёвских ангелов «родственны» Моне Лизе и Венере Боттичелли. Также Н.М. Щекотов дерзает выносить догматическое суждение и заявляет, что рублёвские ангелы «не единосущны», ибо налицо превосходство среднего ангела. Эти абсурдные положения, противоречащие художественному замыслу иконы, вызваны самым энергичным отвращением Н.М. Щекотова к самому духу церковности. Есть один странный род людей: они не могут находиться в храме за богослужением сколько-нибудь долгое время, – и не из-за тесноты, не из-за скуки от непонятности и даже не потому, что не видят смысла своего здесь пребывания. Из храма их выталкивает некая метафизическая сила, кое-кто в церквах теряет сознание… И именно таким человеком представляется нам Н.М. Щекотов… Возможно и такое возражение нашему пафосу «антисозерцательности» в вопросе об иконе: да так ли важно, какими средствами пользуются исследователи, ведь важен результат. Но можно ли придти к верным выводам относительно смысла иконы, если игнорировать реальность ее бытия и просто вглядываться в образ, отдаваясь потоку своей внутренней жизни?
Наша же попытка интерпретации рублевской иконы исходит из неотъемлемого факта – из присутствия ее в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры в качестве храмового образа. Нам видится рублёвская икона, украшенная цветами, озаренная блеском десятков свечей, в волнах ладанного дыма и словно оживающая под взглядами тысяч глаз тех людей, которые собрались в любимой обители на ее престольный праздник. Ведь ради этого момента и писалась икона, и именно в нем надо искать ее смысл.
Икона Св. Троицы родилась из недр того замечательного течения в русской Церкви, которое связано с именем преподобного Сергия Радонежского. Не менее важно для понимания иконы и то, что она писалась как храмовая икона для церкви Святой Троицы, построенной при преподобном Никоне. Престольным праздником этой церкви и днем прославления иконы стала Пятидесятница, под влиянием духовного дела Сергия трансформировавшаяся в день Св. Троицы[128 - См. об этом: П. Флоренский. Троице-Сергиева Лавра и Россия.]. Именно на Руси, в связи с духовными открытиями Сергия, событие Пятидесятницы (сошествие Святого Духа на апостолов, положившее начало историческому бытию Церкви) стало осознаваться как день откровения Св. Троицы. И служба дня Пятидесятницы – этот плод творчества русского народа – наряду с историческим, содержит и онтологический момент прославления и почитания Триипостасного Бога. Отправляясь от этого «утилитарного» назначения иконы – ее бытия в качестве центрального образа Троицкого собора Лавры, и следует постигать ее содержание[129 - Мы различаем здесь понятия «содержания» и «смысла». Первое соответствует более внешнему – собственно художественному уровню иконной семантики. «Смысл» же есть глубинное в иконе – тот духовный импульс, который причастен Первообразу и реализуется в молитве человека перед иконой.].
Икона Св. Троицы представляет собой символ Божественного Триединства, причем по преимуществу в модусе праздника Св. Пятидесятницы. Содержание безмолвной беседы Ангелов (символизирующих Ипостаси Троицы) – это посылание в мир Святого Духа. Исходя именно из этого содержания, и следует рассуждать о том, каково символическое соотношение Ангелов и Ипостасей, и объяснять смысл жестов ангельских рук, склонения их фигур и головок. К тому же самому содержанию восходят и все прочие детали иконы: чаша, здание, дерево, гора. Без размышления над данным – церковно-праздничным аспектом смысла иконы, понимать ее и молиться перед ней невозможно. Это важнейшая промежуточная ступень молитвенного восхождения от образа к первообразу – от ветхозаветного сюжета (первый момент восхождения) к самой Божественной Троице. Именно на данной ступени мы оказываемся в эмоциональной атмосфере иконы. Душа молящегося здесь упорядочивается – устраивается в соответствии с тем эмоциональным сиянием, которое исходит от нее. Эмоциональность иконы Троицы мы охарактеризуем словами о. Павла Флоренского: «Среди мятущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, «свышний мир» горнего мiра. Вражде и ненависти, царящим в дольнем, противопоставилась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном единстве сфер горних. Вот этот-то неизъяснимый мир, струящийся широким потоком прямо в душу созерцающего от Троицы Рублёва, эту ничему в мире не равную лазурь – <…>, эту невыразимую грацию взаимных склонений, эту премiрную тишину безглагольности, эту бесконечную друг пред другом покорность – мы считаем творческим содержанием Троицы. Человеческая культура, представленная палатами, мiр жизни – деревом и земля – скалою, – всё мало и ничтожно пред этим общением неизсякаемой бесконечной любви: всё – лишь около нее и для нее, ибо она – своею голубизною, музыкою своей красоты, своим пребыванием выше пола, выше возраста, выше всех земных определений и разделений, есть само небо, есть сама безусловная реальность, есть то истинно лучшее, что выше всего сущего» («Троице-Сергиева Лавра и Россия»). И праздник Св. Троицы, будучи праздником Единосущия, прославляет Бога, который есть Любовь, по слову апостола Иоанна. Но не только внутрибожественная любовь является содержанием праздника: Церковь, чье земное установление отмечается в этот день, есть залог любви Бога и тварного мира. Этот «последний и великий спасительный день Пятидесятницы праздника» венчает собой событие Боговоплощения, заканчивая Божественную историю искупления. И конечно же, в иконе можно усматривать и Предвечный Божественный Совет, и крестную Жертву – но содержательность и эмоциональность ее все же порождены духовными смыслами праздника Пятидесятницы.
О том, что в сознании человека ХV века существовала связь рублёвского образа со смыслом этого дня, говорят тогдашние и более поздние изображения Св. Троицы, где иконная композиция как бы поясняется тропарем Пятидесятницы[130 - Приводим текст тропаря:«Благословен еси, Христе Боже наш,Иже премудры ловцы явлей,низпослав им Духа Святаго,и теми уловлей вселенную,Человеколюбче, слава Тебе».]. В антологии Г.И. Вздорнова такие изображения представлены панагией ХV века из ризницы Лавры[131 - В отделе иллюстраций антологии она помещена под номером 40. См. также иллюстрации за номерами 38, 39, 41, 43, 45, 49, 31.]. В центральном круге панагии помещено изображение Св. Троицы, по композиции близкое к рублёвскому, – за тем исключением, что средний Ангел имеет крестчатый нимб и надпись IC XC. По кольцевому полю же расположен текст тропаря. Возможно ли в этом образе не находить ключа к иконе Рублёва? Домостроительная деятельность Св. Троицы доходит до события Пятидесятницы, которое и является самым непосредственным, наглядным содержанием иконы. В этом заключена догматическая полнота рублёвского изображения.
Почему-то большинство исследователей иконы Св. Троицы останавливаются на искупительной Жертве Сына Божия, видя в этой Жертве единственный предмет беседы Ангелов. «В Троице изображена беседа двух ангелов. Она означает ниспослание Богом Отцом Своего Сына на выполнение Им земной миссии страдания и смерти для спасения человечества и согласие Последнего с волей Отца. Третий ангел – Дух – «утешитель» в страданиях, его вдохновением свершается жертва любви»: Н.А. Дёмина отрицает за Третьей Ипостасью и малейшую активность, исключая Ее из «беседы». Порядок Ипостасей, согласно Н.А. Дёминой – Сын, Отец, Дух (слева направо от нас). В.Н. Лазарев также считает, что на иконе «представлен акт величайшей, по учению Церкви, любви» – жертва Агнца, ибо чаша – символ Евхаристии. М.В. Алпатов пишет: «…Видимо, увековечен тот момент, когда одно из трех Лиц Божества выражает готовность принести Себя в жертву ради спасения человеческого рода». Порядок Лиц: Отец – Сын – Дух, причем Св. Дух, согласно М.В. Алпатову – свидетель диалога Отца и Сына: «склоненная голова означает Его согласие с общим решением». Исследователь также называет изображение «прообразом страстей Христовых». Архиепископ Сергий, предлагая самый неожиданный порядок Лиц на иконе: Дух – Отец – Сын (обоснованный тем не менее собственным умозрением, ссылкой на авторитеты Ю.А. Олсуфьева и, предположительно, П.А. Флоренского, а также единомыслием по этому вопросу с литургистом Н.Д. Успенским), говорит, что «последняя творческая мысль художника – запечатлеть в образе решение Предвечного Совета Святой Троицы о воплощении Сына Божия и ниспосылания Его на землю как искупительной Жертвы для восстановления падшего человеческого естества». Правда, ниже владыка пишет об усмотрении им радости в иконе «несмотря на заключенную в идейном замысле мысль о Жертве», подчеркивает, что это «праздничная храмовая икона в честь Святой Троицы». Главное же, Голубцов видит в ней и посылание Св. Духа, – но не в событии Пятидесятницы, а через обряд Евхаристии. Владыка Сергий, вместе с Н.Д. Успенским, переживают икону как евхаристическую по своей глубочайшей сути; а «в Евхаристическом каноне Церковь просит, чтобы Отец ниспослал Духа и чтобы Последний претворил хлеб и вино в Тело и Кровь Сына». И все же, согласно окончательному выводу владыки, на иконе посылается не Дух, но Сын: «Этот величественный момент Совета Трех, «Тройческого Совета» с участием «Велика Совета Ангела», определяющего судьбы мира и путь спасения человека через умилостивительную жертву, и мог запечатлеть в образах и символах смиренный инок Андрей».
Как мы видим, большинство исследователей склонны подчеркивать в иконе ее трагический, «страстной» аспект; видимо, этому способствует скорбность ангельских ликов (хотя одна ли это скорбность? не устремленность ли и в собственную сердечную глубину, свойственная делателям умной молитвы?) Однако мы глубоко убеждены в соответствии содержания иконы – содержанию праздника Пятидесятницы, а ее эмоциональности – чувствам, одушевляющим праздник. Действительно, день Св. Троицы, в его сложной и глубокой эмоциональности, страстной, трагический момент, безусловно, содержит. Коленопреклоненные молитвы, читаемые во время Троицкой вечерни, все обращены к Христу и проникнуты чувством покаяния. Богослужение праздника Св. Троицы по своей структуре и эмоциональности приближается к службам Поста (скажем, во время утрени под Духов День читается Малое повечерие). Однако над этим страстным элементом доминирует чувство утешения – умиротворения, радости от приятия даров Утешителя. Покаянное же чувство, связанное с идеями распятия и страдания, в празднике Св. Троицы переживается лишь как условие принятия благодати Св. Духа.
Относительно расположения Лиц (символизируемых Ангелами) на иконе хотелось бы сказать следующее. Если икона соотнесена с праздником Св. Троицы, то порядок Лиц, на наш взгляд, устанавливается однозначно. Об этом будет говориться далее, в основном тексте данного исследования. Существует, правда, довольно убедительное мнение, согласно коему вовсе не надо соотносить Ипостаси и Ангелов, – гадать, где на иконе Отец, где Сын и где Дух. Такое мнение присутствует, например, в близких нам рассуждениях В.Н. Щепкина, помещенных в антологии Г.И. Вздорнова. В.Н. Щепкин, интуитивно ощущающий икону Св. Троицы как моленную и чудотворную («…Его иконы [т.е. преподобного Андрея Рублёва. – Н.Б.] особенно легко переносили в другой мир, облегчали страдания этого…»), считающий, что она – «не библейское событие и не прообраз, а прямое воплощение главного догмата христианства», уклоняется тем не менее от ее аллегоризации. «Наклоны голов и выражения ликов невыразимо просто объясняют отношение трех Лиц Троицы. Говорить об этом словами почти невозможно, они сразу выводят тайну из сферы непосредственного созерцания. Поэтическая дума о догмате разлита в иконе повсюду» [подчеркнуто нами. – Н.Б.]. Не аллегория Рождения, Исхождения, «сидения» Сына «одесную Отца» и т.д., – но именно мистика и эмоциональность догмата, по мысли В.Н. Щепкина, запечатлены иконой. Заметим, что идеи В.Н. Щепкина близки мыслям Флоренского из статьи «Троице-Сергиева Лавра и Россия», – выше мы процитировали этот настоящий гимн «тройческой любви». Только Любовь как таковая, Любовь сама по себе есть содержание иконы; Флоренский не задается вопросом о конкретных символах и аллегориях.
В вопросе о Лицах на иконе нам все-таки ближе попытки их конкретизации. Единое Божественное Существо, или Природа, которая есть не что иное, как Любовь, является для наших интуиций Жизнью, непременно воипостазированной. Любовь непременно есть любовь личная; личность не только придает любви свой неповторимый оттенок, но и вообще любви вне личности просто нет. Божественная Любовь – не столько Сущность, природа, усия Бога (модус онтологии), сколько Его Жизнь, Существование (модус экзистенции). И в силу этой жизненности Божественной Любви, она хотя и есть общая атмосфера, единое энергетическое поле Троицы, но поле это порождается импульсами, исходящими от Ипостасей. Не одно и то же – любовь Отца, любовь Сына и любовь Св. Духа: в едином событии каждое Лицо участвует по-Своему, что и отражено на иконе. Кроме того, нам трудно допустить, чтобы преподобный Андрей не принимал в расчет мысли о соответствии Ангелов Ипостасям. В процессе работы он ориентировался на сюжет более глубокий, нежели явление странников Аврааму, – на сюжет новозаветный. Ноуменальность Св. Троицы может просвечивать только через сюжетную образность; но каким же сюжетом, кроме как событием Пятидесятницы, мог вдохновляться иконописец при создании иконы данного праздника? На чем другом мог он концентрироваться в процессе работы? А потому не являются ли все прочие смыслы рублёвской иконы ассоциативными отголосками, побочными значениями, перекрываемыми основным смысловым звучанием? Событие же Пятидесятницы догматически четко различает функции Божественных Лиц; потому оно и есть откровение Св. Троицы.
Событие Пятидесятницы, с его Божественной стороны, состоит в посылании в мир Господом Иисусом Христом Святого Духа, о чем и говорится, например, в тропаре праздника. Если исходить из этого, то художественное содержание иконы можно представить следующим образом. Средний Ангел Божественного Совета (показанного на иконе в модусе Пятидесятницы) символизирует Бога Сына, главное действующее Лицо события. Ведь именно Сын действует – посылает Духа, который – Лицо пассивное. Подразумевать Сына именно под средним Ангелом входило в канон композиции иконы Св. Троицы и до Рублёва. Согласно одной из трактовок ветхозаветного события, Авраам принимал у себя Бога (под видом странника) и двух ангелов; на иконе Бога (Вторую Ипостась) изображали в центре, наделяя нимбом с крестом и надписью IC XC. Преподобный Андрей, как известно, сохранил канон тройческих икон, проработав его до ноуменальной глубины. И вряд ли у него были основания менять композицию, – в частности, место Второй Ипостаси на иконе… В облике среднего Ангела человеческое начало просвечивает сильнее, чем у двух других, – он наиболее мужественный из трех, его внешность в наибольшей степени связывается с плотью. Страстной момент, сопряженный со Второй Ипостасью, подчеркнут алым хитоном и деревом на заднем плане – эмблемой Древа крестного. Благословляющий жест правой руки среднего Ангела направлен в сторону правого (от нас) Ангела, который – образ Св. Духа. В облике правого Ангела преобладает пассивность. Покорный наклон головы и всей фигуры, движение руки, смиренная кротость лика, определяющая характер этого Ангела: все свидетельствует о его согласии с решением Божественного Совета. Именно из-за этой пассивности некоторые исследователи (например, архиепископ Сергий Голубцов) видят за правым Ангелом страдающего Бога Сына. Даже в том, что Ангел как бы прислонился спиной к краю иконного ковчежца, усматривают дополнительное указание на тягостное, незащищенное состояние Ангела… Но пассивен в событии Пятидесятницы как раз Святой Дух; поэтому для нас естественно видеть именно Его в обличье правого Ангела. Женственность вида правого Ангела тоже может быть связана по преимуществу с Третьей Ипостасью[132 - Сошлемся, как на некую иллюстрацию этого положения, на книгу «Третий Завет» А.Н. Шмидт. Дух Святой понимается ее автором как «Дочь Божия». Теософичность, «природность» мистики созерцательницы не перечеркивает полностью (согласно Предисловию к книге) значения ее откровений для Церкви. И что нам сейчас особенно важно, в Предисловии говорится, что свидетельство А.Н. Шмидт о «женской» природе Св. Духа находит подтверждение у некоторых свв. отцов, – в частности, у св. Максима Исповедника. Авторами Предисловия считаются о. Павел Флоренский и С. Булгаков (см. библиографию трудов Флоренского в №23 БТ).]. Также и гора за ним знаменует не что-то другое, но духовное восхождение.
Итак, Сын посылает Св. Духа, который выражает на это Свое кроткое согласие. Однако средний Ангел (являющийся образом Сына) обращается не только к правому Ангелу (благословляющий жест правой руки), но и к левому – Своим взглядом. Этот взгляд означает вопрос или просьбу санкционировать намерение и действие Его, среднего Ангела. Наклон Его головы свидетельствует о смирении перед Ангелом левым; вообще заметим, что средний и правый Ангелы оба как бы склоняются перед левым: своими головами, шеей, корпусом они совершают абсолютно параллельный жест. Смысл этого вопроса или просьбы среднего Ангела несложно понять, привлекая для этого общие догматические представления. Ведь именно Отец изводит Святого Духа, Сын же в пневматических событиях является Посредником (но не причиной исхождения Духа, как у католиков). Поэтому Сын не может послать Св. Духа без согласия на то Отца; вопрошающий взгляд среднего Ангела в направлении левого и означает просьбу об этом согласии.
Левый Ангел – самый прямой и властный. Он не склоняется перед двумя другими, и в нем можно видеть образ кроткой власти. Благословение Его руки и взгляд обращены к правому Ангелу – к Св. Духу; однако данный жест одновременно есть и ответ Сыну – Ангелу в центре: это выражение согласия на Его просьбу. Движение покорности правого Ангела направлено и к Отцу, и к Сыну, – быть может, к Отцу прежде всего. Хочется отметить сложный жест, центральный в нашей иконе: это динамика линии от головы до правой руки среднего Ангела. Взгляд Его (Сына) как бы принимает некий импульс от левого Ангела (Отца), и этот импульс распространяется по данной линии вниз, к благословляющей руке, а затем переходит к правому Ангелу (Духу). В этом жесте – само действие события посылания Святого Духа, в нем сосредоточена энергетика образа. Помещенная ниже схема передает порядок Лиц на иконе и характер отношений между ними:
Схема отношений Лиц в событии Пятидесятницы
Как мы видим, рублёвский образ Св. Троицы живет самой напряженной жизнью. От одной ангельской фигуры к другой струятся импульсы, смысл которых определяется событием Пятидесятницы – посыланием Сыном Св. Духа с согласия Отца. Часто динамику иконы сводят к круговому движению[133 - Так мыслят почти все авторы антологии Г.И. Вздорнова. Например, Л.А. Успенский пишет: «Поместив фигуры ангелов в круг, преп. Андрей объединил их в одном общем, плавном и скользящем движении по линии круга». Во всех элементах иконы, по Л.А. Успенскому, присутствуют «отголоски основной круговой мелодии».], но нам оно представляется чуждым тройческому общению Ангелов. Между любыми двумя Ангелами на иконе существуют отношения вопроса-ответа, распоряжения-согласия (см. только что приведенную схему), так что кругового движения единой эмоции – движения в одном направлении в динамическом поле иконы нет. Сам догмат о Боге Троице не имеет круговой симметрии, и если и говорить о его соответствии геометрической фигуре, то знаком Троицы несомненно является не круг, но треугольник[134 - Треугольник, будучи одним из раннехристианских обозначений Св. Троицы, изредка встречается и на поздних православных изображениях, – например, в композиции Недремлющего Ока.]. Вообще идея движения по кругу в чистом виде была достоянием скорее дохристианского мировоззрения. Она напряженно переживалась на Востоке благодаря вере в кругооборот перевоплощений; вспомним также про мировой океан, обтекающий Землю, вращение небесных сфер, определяющее земные события, и подражающие этим природным движениям священные хороводы древних греков. Если признать круговой характер композиции иконы преп. Андрея, то тем самым Ипостаси нивелируются – теряют в этом всеуравнивающем движении свою ипостасную специфику, «Единица» подавляет «Троицу»… Круговое движение, соответствующее замкнутой на себе, бесцельной эмоции, не может соответствовать действиям Св. Троицы – очень конкретным, волевым, результативным. Дух Святой посылается в мир (или даже Сын, как часто думают): таков конкретный результат внутритройческого Совета. Где же здесь бесконечный круг? Если связывать с иконой Св. Троицы догматический смысл, то надо признавать содержательную конкретность взаимоотношений Ангелов[135 - Вот одно спорное место нашей трактовки смысла рублёвской иконы. Сын нами помещен влево от Отца, что противоречит «одесную» сидению Символа веры. Но нас удовлетворяет то понимание этого «одесную», которое содержится в статье архиепископа Сергия: «одесную» означает равночестность Сына Отцу. Для преп. Андрея, видимо, было важнее сохранить каноническую композицию Троицы (со Спасителем в центре), чем выразить это «одесную».]…
Идея Триединства принадлежит Божественной Вечности и на земном плане осуществиться не может. Адекватно изобразить Триединое Божественное Существо – не-нумерическую, не-количественную Троицу в пространстве иконы, всё же эвклидовом, трехмерном (хотя и искаженном), – выразить, что 3?1, конечно, невозможно. Можно лишь намекнуть на Триединство, представить его пространственный и нумерический символ, – но и подобный образ в состоянии донести до нас отблеск Божественного бытия. Икона преп. Андрея близка к этому мысленному идеалу, ибо она преодолевает эвклидовский характер пространства и даже количественные закономерности. Мы действительно видим на рублёвской иконе одно Существо. Сравним ее композицию с композицией ростовских и псковских «изокефальных» тройческих икон. Эти последние изображают Ангелов сидящими в один ряд за столом, фронтально по отношению к нам, Ангелов совершенно одинаковых – по лицам, одежде, благословляющим жестам:
Изокефальная икона Св. Троицы, Псков ХVI в.
Замысел таких икон рационалистичен, «Троица» здесь показана чисто нумерически: само расположение Ангелов подталкивает к счету «один, два, три». Единосущие Ипостасей передано через элементарное тождество внешности Ангелов, особенный же характер каждой Ипостаси полностью утрачен. Трудность показать Тройческое Единосущие иконописец преодолевает с детской простотой: Божественное – не-нумерическое «3» он заменяет количественной тройкой, а Единица – то «единосущие», которое было предметом яростной соборной полемики, для него есть также нечто совершенно понятное – полное тождество. Конечно, изокефальной композиции нельзя отказать в статусе тоже символа – образа Троицы, но этот символ гораздо примитивнее рублёвского. Композиция иконы преп. Андрея также чрезвычайно проста – но это простота высшая, за которой стоит глубокая тайна, – простота, не сводимая к рационалистическому объяснению. Про рублёвских Ангелов нельзя сказать: один Ангел, два Ангела, три Ангела – Святая Троица. Каждый Ангел не просто один: он в определенном смысле больше одного, больше самого себя – Отца, Сына или Духа. Границы личности на иконе преп. Андрея разомкнуты: Ангелы – отнюдь не завершенные в себе монады.
Здесь тайна любви – умаления и восполнения одновременно. Каждый Ангел являет собою образ полного самоотрешения: всем своим существом он направлен на других. Ни один из Ангелов «не ищет своего»: Сын посылает Духа апостолам, Дух покоряется Отцу и Сыну, Отец благословляет акт Сына. В общем событии Пятидесятницы каждая Ипостась обретает Свой смысл благодаря действию двух других. Искусствоведы подмечали, что три рублёвских Ангела – вроде бы не три, но один Ангел[136 - См.: Архиепископ Сергий (Голубцов), указ. соч.; также см.: Ветелев А. Богословское содержание иконы «Святая Троица» преподобного Андрея Рублёва // ЖМП, 1972, №№8, 10.]. И быть может, здесь самый таинственный момент иконы: три совершенно разных лика, наполненных различными эмоциями – и в то же время за этими тремя ликами как будто стоит одно Существо! Оно обнаруживает Себя как жизнь, которая светится в глазах Ангелов, а также проявляется в жестах их рук, склонении голов и фигур. Эта жизнь – воля, мысль и любовь – перетекает от одного Ангела к другому, размыкая каждую ангельскую личность, сообщая единство их Совету.