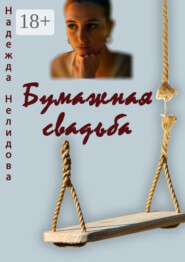По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В России жить нескучно
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А в воздухе неспокойно, душно было, как перед грозой. Чем дальше, тем больше зрело, наливалось тягостной тоской тревожное ожидание. Ой не ладно, не может так бесконечно продолжаться, сколько ниточке ни виться – а кончику быть. Снова не ошибся Харитоныч, как в воду глядел.
– Мы люди маленькие, – приговаривала жена, отмеривая в рюмочку тридцать капель вонючего корвалола. – От нас ничего не зависит.
Вот из-за этого… Из-за таких вот. Сто миллионов «маленьких» людей, которые по углам отсиживаются. Вон оно, равнодушие-то чем обернулось.
– Пей сама свои кошачьи капли!
Толкнул рюмку, застегнул ветхий пиджак и захромал на край села – излить душу, высказать сомнения, может быть, поспорить. Там на отшибе, в половине пятистенной избы жил учитель черчения, тоже на пенсии, Илья Семёнович, вдовец. Как-то получалось у него в ворохе слов найти нужные, убедительные, а не убедит – так заставит примолкнуть, повесить голову, задуматься – при этом, заметьте, даже голоса не повышал. Вот что значит интеллигент.
Посмеивался: «Знаете, как говорят: чем слабее аргумент – тем выше голос. Слова должны быть мягкими, а аргументы твёрдыми». Умел уважительно выслушать – в отличие от Харитоныча, наскакивающего петушком, глотающего целые фразы, отчаянно торопящегося высказать мысль, пока не выскочила из дырявой головы.
– Глубже нужно смотреть, Андрей Харитонович, глубже.
И Харитоныч понимал, что да, прав Илья Семёнович. До этого он, стыдно сказать, уподоблялся чеховской Душечке. Слушал одного зажигательного эксперта в интернете – соглашался, всё верно. Переключался на другой канал – и тут всё гладко, и в третьем своя правда. В итоге путался в сотнях маленьких правд и окончательно терялся: кому верить?
Илья Семёнович научил отделять зёрна от плевел. Когда огород от сорняков очищаете – вы же не травинки маникюрными ножничками стрижёте, а докапываетесь до корня, верно? Иногда корень на полметра в землю прорастает. Во всех мировых и локальных войнах, говорил, нужно уметь распознать того, кто на её руинах выиграл – тот и есть ласковый провокатор, бархатный зачинщик и невидимый поджигатель. И всё-то он чужими руками жар загребает и вроде ни при делах – а именно к нему в сундуки рекой стекается мировое золото. То самое злато, злато, через которое столько зла-то.
Вот и нынче: посеяв грандиозную смуту, Карабасы Барабасы запаслись попкорном, поелозили сытыми задницами в креслах, устраиваясь удобнее. Зрелище сладкое и желанное их сердцу. Сидят любуются, как славянские народы крошат друг друга. Не так: разодранный пополам, некогда единый народ убивает себя, воюет сам с собой, на радость Сатане, тешит Дьявола.
И, хотя Харитоныч категорически не верил в Бога, отчаянно хотелось воздеть руки и возопить: «Господи, и ты это видишь и молчишь?!»
У Ильи Семёныча на тесной полке среди прочих стоит книжка «Мифы Древней Греции», давал почитать. Харитонычу запомнилось: в гущу выросших из земли воинов кинули камень – и они, ослепнув, обезумев, направили копья и мечи друг против друга. Эх, а надо бы прозреть и повернуть на того, кто кинул камень.
Илья Семёнович с чем-то соглашался, над чем-то посмеивался в усы, что-то мягко опровергал. Но насчёт непревзойдённого лицемерия, вероломства и холодной расчётливой жестокости общемирового капитализма, закордонного и нашего доморощенного – это да.
***
…На дверях половины избы Ильи Семёновича висел замок. Что на него не похоже: обычно, уходя, припирал дверь палочкой. А чего у старика тащить – мифы Древней Греции, что ли? Да и не было замечено в маленьком селе воров: все свои, ну пара-тройка приезжих дачников. За забором в огороде возилась соседка, Харитоныч её окликнул. Та подошла, вытирая руки передником.
– Не насовсем ли уехал, второй день не видать? Сынок с семьёй за границей, давно звал к себе. Вон вокруг что творится. Как с ума посходили, носятся с чемоданами туда-сюда, мечутся как петух без головы. Старик мой слышал, вчера на рассвете такси подъезжало. Не по-соседски, не попрощался, видимо, срочно.
Харитоныч так и сел на чистенькую, мытую дождями завалинку. Не ожидал, что вдруг станет пусто и больно на душе. К кому сейчас пойти, с кем поговорить? В последний раз у них осталась незаконченной захватывающая, интереснейшая беседа про мир, который стоит на развилке: однополярный путь, корпоративный или многополярный? А кто ещё так просто и доходчиво разъяснит финансовую науку: чем аукается повышение НДС и почему высокая ключевая ставка Центробанка убийственна для экономики?
Кто мягко урезонит: «Горазд ты, Андрей Харитонович, ярлыки навешивать. Хотя в этом случае согласен». Это когда Харитоныч, плюясь как чайник, возмущается, что самые рьяные патриоты рвут горло на телевидении, а капиталы свои и домочадцев пристраивают на ненавистном Западе. Или взять их районную власть: в суровую годину способны лишь на глупые увеселительные мероприятия да на трескучие фейерверки. Временщики.
Кто, в конце концов, усадит его пить чай с богородской травой и каменными пряниками, хлопнет по коленке, вскочит и возбуждённо по комнате пробежится:
– Вот, во-от, а ещё говорят: народ ничего не понимает.
Это когда в последний раз Харитоныч припомнил события двадцатилетней давности, засомневался насчёт 11 сентября. Не похоже на арабов – им не до жиру, быть бы живу – чтобы разыграть такой зрелищный, стройный, киношно-голливудский сценарий с красивыми атаками на башни-близнецы. Главное, почерк всё тот же, знакомый: на чужих обломках жизней обделывать свои мутные делишки. А лапы загребущие, клешнятые, окровавленные, какие рисовались в советском сатирическом журнале «Крокодил».
***
– Боже упаси! – открывал ключом замок Илья Семёныч. Только с рейсового автобуса: запылённый плащик, серая пыль забилась в мелкие морщинки лица. – В райцентр ездил кофе в зёрнах купить, у нас в сельпо только растворимый. Без хлеба могу, а без кофе швах… Куда же я от этого? – обвёл рукой вокруг. Переулок живописно взбегал и обрывался над рекой, а по бокам нависали голубые хвойные велюровые холмы, по-весеннему подёрнутые розоватой берёзовой паутинкой. – Не дождутся, как говорят. Это пускай перелётные птицы летят в жаркие страны. А мне ни берег турецкий, ни Африка не нужна. Я тут родился-женился, здесь вся жизнь, Галина могилка здесь. Вот что, Андрей Харитонович, я по случаю двести пятьдесят армянского коньячка приобрёл. Как насчёт пары рюмочек?
Харитоныч быстрой прихрамывающей ногой туда-сюда, жена слова не сказала: как все в селе, уважала Илью Семёновича. Завернула с собой стряпни, мелких баночек с салатиками. Посидели, выпили – за мир, конечно. Уже стемнело, на лиловом небе зажглись мелкие звезды, а из открытого окошка (комар ещё не завёлся) неслось страстное, с болью, Харитонычево:
– Думал, в двадцать первом веке люди умнее будут, а они всё жаднее. Да когда уже нажрутся, перестанут мир под себя грести, есть ли предел человеческой алчности? Куда в три горла пхать? А главное: зачем? Заче-ем, такая жизнь короткая?!
***
Проводив пьяненького соседа, Илья Семёнович убрал со стола, насухо вытер клеёнку и придвинул маленькую рамку с фотографией жены. Там она хохотала на фоне белопенной черёмухи, кудрявая, молоденькая, задорная, в венке из той же черёмухи. Галя угасла буквально за год. Давно заподозрила неладное, но скрывала от всех и в больницу не обращалась.
– Почему?! – только и вскрикнул он, когда узнал.
– Не хотела превращать остаток жизни в ад для нас обоих, – грустно сказала она. Мужество это было или слабость с её стороны? Скорее, материнская жалость к нему. Дети разлетелись, они одни остались друг у друга.
– Я вот думаю, Илюша, отчего душа так трудно и долго покидает тело? Зачем Бог даёт им намертво срастись? Вот было бы замечательно: вспорхнула бабочкой и улетела.
…Илья Семёнович вздрогнул: крупный пушистый мотылёк заметался вокруг лампы, обжёгся и кинулся назад, забился о чёрное стекло. С величайшей осторожностью, боясь повредить ломкие крылышки, он поймал и выпустил мотылька в весеннюю сырую темноту. И долго потом не решался стереть с пальцев серебряную пыльцу.
ДЫРА НА ОБОЯХ
Все говорили, что Василий Лукич и Таисья Игнатьевна отличная пара. Никто не догадывался, что всю полувековую жизнь между ними торчал клинышек.
Таисья Игнатьевна обожала песенную эстраду. «Попсу», – презрительно уточнял Василий Лукич. На видном месте в зале, в простенке красовалась вырезанная с незапамятных времён то ли из «Огонька», то ли из «Крестьянки» фотография знаменитой артистки. Сто раз «в последний раз» она уходила со сцены, каждый раз обставляла уход как событие века, с шумом и треском прощалась с рыдающими фанатками, вроде Таисьи Игнатьевны.
Она, зарёванная, гремела на кухне посудой. Василий Лукич утешал:
– Хватит рюмить, никуда не денется твой бесценный предмет любви. Это у них пиар-ход называется.
За последние годы Василий Лукич и не такие слова выучил. И ведь правда, не проходило месяца – глядь, артистка снова материализовалась из небытия, и радовала и осчастливливала поклонников.
Когда по телевизору начинались разные музыкальные конкурсы, Таисья Игнатьевна бросала все даже самые горящие дела и усаживалась смотреть своих светочек, валерочек, леночек.
– Да в нашем ларьке продавщица Оля лучше их поёт, – говорил Василий Лукич.
– Кабы лучше – по телевизору бы показывали.
– Дура, кто же её в телевизор пустит? Там поляна вытоптана для своих.
Таисья Игнатьевна не слушала крамолы, махала руками, затыкала уши. В пику мужу, просила внучку делать фотографии певцов – и туда же их, в простенок.
– Убери свой иконостас, не позорься, – уговаривал Василий Лукич жену. – Ладно у малолеток умишка с фасолинку, резьбу срывает, им беспременно обожать кого-то требуется. Они так саморе-а-ли-зуются, – хоть по складам, а Василий Лукич осваивал новые слова. – А ты вроде солидная женщина, бухгалтер.
Дочка тоже кривила губы: «Фу, мам, давно не модно и выглядит как дёшевка. И к обоям по цвету не подходит». Таисья Игнатьевна поджимала губы, смахивала пыль с глянца.
– В остальном-то она нормальная, – разводил руками, убеждал сам себя Василий Лукич. – Борщ вкусный варит. А бзики у всех есть. Вон, у меня рыбалка, тоже крышу сносит.
Иногда всё же подкалывал:
– А твои-то под фонограмму поют.
– Живьём, – упорствовала Таисья Игнатьевна. Василий Лукич находил в интернете и на всю избу включал тайно записанных без микрофона, сипящих и керхающих «звёзд». Таисья Игнатьевна затыкала уши и убегала. В отместку подавала пересоленный борщ и подгоревшие котлеты. Или вовсе становилась в позу: «Готовь сам».
Делать нечего, Василий Лукич затягивал на тощеньких боках объёмный, 60-го размера фартук жены – тесёмки приходилось заводить вперёд и завязывать на животе. Гоношился у плиты – за удовольствие подразнить женщину надо платить.
Однажды только могучая вера Таисьи Игнатьевны пошатнулась. Это когда на день города «по многочисленным просьбам трудящихся» в их захолустье приехали звёзды с последнего музыкального конкурса. Их портреты тоже недавно появились в простенке – хотя лепить там уже было некуда.