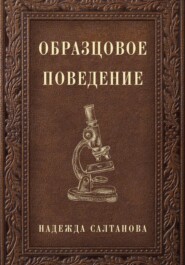По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Яд Империи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Господь с тобой, меня позвали, что ж я, отказываться буду. А позвали меня потому, что аптека моя ближе к гавани. Да декарх меня знает хорошо…
– Ох, молчи лучше. От вас, женщин, один шум и беспокойство. Доложу эпарху, что ты под подозрением большим. Пусть твою аптеку прикроет – меньше хлопот всем будет.
– Да за что жe, уважаемый?! – Нина тоже перешла было на крик. Но под злобным взглядом сикофанта поутихла. Ведь и правда закроют, да в казну заберут – видано ли, чтобы женщина одна торговлю вела. Нина запаниковала:
– Дай я хоть сама поговорю среди аптекарей да врачевателей, узнаю, может, кто спрашивал или покупал…
– Ты-то что узнаешь? – нахмурился сикофант, – Бабьи сплетни одни, так они тут без надобности. Иди уже, я с эпархом[6 - Эпарх – градоначальник Константинополя] говорить буду.
– Ой, и где тот эпарх?! – повысила было голос Нина, да, спохватившись, на почтительное обращение опять перешла. – Почивает небось, может, только завтракать собрался. И тебя, уважаемый, дальше порога не пустят. Да отговорятся, чтобы не ходил лишний раз, да из-за нищеброда хороший дом не позорил, – указала рукой в сторону трупа мальчишки.
Сикофант молча царапал что-то на табличке, бормотал небогоугодное себе под нос. Шум прибоя и резкие крики чаек заглушали его слова. Наконец он убрал табличку в суму на поясе, поскреб подстриженную бороду. Нина смиренно наклонила голову, шагнула чуть ближе.
– Дай мне хоть немного времени – за что ж на меня поклеп возводить зря? Я что выясню, все тебе и доложу. Тебе опять же меньше хлопот. Там, где служивого на порог не пустят – я с боковой калитки зайду. Глядишь, и тебе подмогу, и себя оберегу от наветов пустых, – Нина говорила торопливо, заглядывая сикофанту в лицо.
Тот молчал.
– У мальчика ведь мать есть, наверное. Я с ней поговорю, посочувствую, может, она что про душегуба скажет. И с кузнецом. Дай хоть пару деньков, что разузнаю, тебе сразу пошлю весточку.
Он отвернулся, махнул солдатам рукой, чтобы унесли тело. Чуть повернув голову в сторону Нины, процедил тихо:
– После зайду, поговорим. А если что важное узнаешь, найди меня сама. Никоном Хакениосом меня зовут.
Женщина кивнула, повернулась и быстро пошла обратно, склонив голову и сердито шепча что-то.
––
Нина металась по аптеке. Утреннее происшествие никак не шло из головы, все валилось из рук. Подмастерье уже наградила оплеухой, когда подсунулся не вовремя. С трудом взяв себя в руки, села за работу. Обычно ее успокаивало мерное движение пестика при растирании семян лаванды с распаренными овсяными зернами. И нежный запах, поднимающийся от ступки, настраивал на спокойный и благостный лад, уходили тревоги. Так и в этот раз, пока готовила снадобье, пока смешивала с виноградным маслом, растирая, успокоилась немного. Отставила глиняный горшочек в сторону, чтобы настаивался, накрыла промасляной тряпицей.
С мелкими заказами Нина справилась, послала подмастерье разнести их. Закрыв аптеку, она пошла вверх по Мезе[7 - Меза – главная улица Константинополя] к пекарне, где хозяйничала статная смешливая Гликерия, давняя ее подруга. Подойдя, облегченно вздохнула, увидев сгорбленную фигуру на скамеечке у входа. Это сидел отец Гликерии, старый Феодор. Сколько лет ему было никто и не помнил. Две старшие его дочки уже своих детей растят да живут далеко.
Гликерия была его третьей дочкой, от второй жены. Мать Гликерии была сильно моложе мужа, да родами потом умерла, успев еще дать жизнь сыну. Тот тоже на этом свете надолго не задержался, утонув, будучи еще мальцом. Каждая семья в большом городе родных и любимых теряла, не обошла судьба и Феодора.
Пекарня его была известна с незапамятных времен. Горожане приходили к Феодору за пышными лепешками, за самыми нежными милопитакья[8 - Постные яблочные пирожки], за тающими во рту лукумадесами[9 - Круглые сладкие пончики], а уж за византийскими рогаликами из многослойного теста присылали из самых богатых домов. Здесь выпекали ароматный хлеб силигнитис из лучшей муки, для богачей, а для горожан победнее – сеидалитис, что из муки попроще.
Феодор передал все дела младшей дочери, только с гильдией и эпархом сам договаривался. Красавица Гликерия в положенные пятнадцать лет замуж вышла за хорошего человека, хоть и приезжего. И дела они вели дружно да умело. И с купцами договориться выгодно могли, и таверну при пекарне завели небольшую, где можно было свежим хлебом перекусить и недорогим вином запить. Все у них ладилось. Да в праздник возвращался муж ее с ипподрома, а выпившие патрикии на колеснице решили по Мезе прокатиться. И лошадьми многих прохожих потоптали. Погиб и он под колесами пьяных богачей. Претор тех патрициев из города изгнал, да сперва заставил выплатить семьям убитых по десять золотых солидов[10 - Солид (номисма) – золотая монета Византии]. Так и остались Гликерия одна с батюшкой.
Отца своего Гликерия обожала, заботилась, как о маленьком ребенке. Он тоже в дочери души не чаял. Соседи его уважали, увидев старика, кланялись, подходили за советом, присаживались рядом, разговаривая. Нина тоже любила с ним беседовать, опять же совет выслушать, просто на судьбу пожаловаться, а то иногда и помолчать, душой отдыхая.
И в этот раз, увидев его на улице под портиком, обрадовалась. Достала из сумы припасенную мазь для суставов, что очень беспокоили старика, особенно по весне. Подойдя, поклонилась, спросила разрешения присесть. Тот, оторвав глаза от деревянной чаши, по краю которой вырезал узор, ласково улыбнулся, по-стариковски щурясь:
– Садись Нина, рассказывай. Что случилось, зачем к стене бегала поутру.
Нина только головой покачала, не особо удивляясь. Старец знал все, что происходило в городе. Какие птицы ему вести приносили, как он про все важное узнавал – непонятно. Но люди говорили, Феодор все знает, а что не знает, то и неважно, или знать не положено. Разговаривал Феодор со всеми, да со всеми по-разному. С кем-то ласково, с другими строго, с кем-то жалостливо, как чувствовал что каждому надо от него услышать. И всем помогал. То матери, заполошно бегавшей по улицам в поисках оболтуса сынишки, скажет, чтоб поискала через две улицы у торговца сладостями. То девушку, которую обидел жених, успокоит, что завтра все уладится. То купцу, что не знает, можно ли доверить часть товара партнеру, подскажет, как быть. И находился сорванец, и приходил на следующий день раскаявшийся жених, а купец присылал Феодору кувшин вина в подарок, за то, что уберег от убытку.
Вот и сейчас, Нина и рассказать не успела, а он неспешно сказал:
– Думаешь, убили его? Не могло быть, что сам что-то съел?
– Пятна у него на шее, как будто кто держал насильно. Не ведаю что сьел, но на вороте и у рта у него крошки сахарные. Пахнет медом и корицей. Только если бы сам что съел, так был бы хоть на людях, все бы знали, опять же за мной послали бы или к Гидисмани хоть. А тут под стеной… кому ж в голову придет туда идти, если солнце уже село. А подальше следы обуви на песке между камнями… Как будто кто-то смотрел, как он умирает. Это ж кем надо быть, а?
– Плохое это дело. Мальца отравить – это может только тот, чья душа уже пропала. А следы – может, после народ прибежал?
– Народ-то со стороны ворот стоял, а следы поодаль и ближе к стене. Феодор покачал головой.
– Что же делать, почтенный Феодор? Сикофант на нас, аптекарей, наперво и думает, мы-то с ядами постоянно дело имеем. А мою аптеку и вовсе закрыть пригрозил. И сказал, что бабьи сплетни ему без надобности.
– Это он зря так тебе сказал. Ну у него забот много, у самого двое детишек, так расстроился поди. Ты вот подумай, зачем дите убили? – Феодор из-под морщинистой руки посмотрел в небо.
Нина лишь вздохнула.
– Тяжело тебе будет, Нина. Самой придется искать потравителя.
– Да куда ж мне, почтенный Феодор? Не умею я душегубов то искать, на то сикофанты и есть. Я к тебе за советом пришла, что делать ума не приложу, – вздохнула Нина.
– Давай-ка я расскажу тебе про мудреца и рыбака, – помолчав, сказал старик.
Нина обхватила себя руками за плечи, приготовилась слушать.
– В далекой феме жил мудрец, к которому приходили на обучение многие юноши и зрелые мужи. Однажды пригласили его в школу, чтобы поделился он своей мудростью с учениками. Добираться пришлось через реку и мудрец заплатил бедному рыбаку на утлой лодочке, чтобы тот перевез его. Когда отплыли от берега, рыбак спросил, куда он направляется. Тот важно ответил, что едет в школу, чтобы учить других. “Никогда у меня не было времени учиться в школе” – сказал рыбак. “Ты потерял полжизни!” – ответил мудрец. “А умеешь ли ты плавать?” – спросил его рыбак. “На это у меня не было времени,” – ответил мудрец. “Тогда ты потерял жизнь, потому что моя лодка тонет!” – сказал рыбак.
– К чему твоя притча, что-то я не пойму, – озадаченно произнесла Нина.
– А к тому: ежели что не умеешь, так учиться надобно. Человек – такое создание божье,что все время чему-нибудь да учится. Где-то с возрастом мудрость приходит, где-то у других посмотришь, где-то сама споткнешься да поднимешься. Для этого ни школы, ни книги не нужны. Ты себя слушай, сердце подскажет, что делать. И от ядов что поищи, пригодится. Что ко мне пришла – хорошо, но ищи и другой помощи. И я поспрашиваю, подумаю.
Гликерия уже несколько раз выглядывала и делала Нине знак глазами, чтоб заходила свежей выпечки отведать, но помешать боялась. Нина поблагодарила Феодора за науку, оставила ему мазь, заглянула в пекарню.
Хозяйка пекарни кивнула на скамью, чтобы Нина присела, пока та обслуживала покупателя с крупным заказом. Ожидая, аптекарша смотрела на сложенные в корзинки хлеба, на разложенные сладости и сдобу. Обычно пьянящий запах свежей выпечки будоражил аппетит, руки сами тянулись к пышным лепешкам и медовым лукумадесам. Аромат и похрустывающая корочка горячих хлебов искушали и манили. Сегодня же Нину не радовали ни запахи, ни вид сладостей.
Распрощавшись с покупателем, наконец, Гликерия присела рядом с Ниной. В руках у нее была плоская миса с парой лукамадесов – знала, чем подругу побаловать. Нина устало улыбнулась и отрицательно покачала головой:
– Спасибо, Гликерия. Ты уж прости, но после сегодняшних событий что-то кусок в горло не идет.
– Что случилось? Говорят убили кого-то. Тебя-то звали зачем?
– Убили. Сикофант за аптекарем послал, вот меня и позвали. Отравили отрока.
На этих словах впечатлительная хозяйка пекарни схватилась за сердце, застыв на мгновение. Слезы покатились из глаз.
– Ой, горе-то. И за что ж мальцу-то такая смерть? Мать, небось, убивается.
Гликерия утирала слезы причитая. Потом посмотрела повнимательнее на подругу.
– И как ты Нина, вот это все так спокойно переносишь? Ты ведь тоже женщина, а не горюешь, не плачешь совсем. Неужто не жаль невинную жизнь загубленную? – голос ее сорвался, она прикрыла рот краем платка.
– Конечно, жаль. И отрока жаль, и мать его. Но ты же знаешь, сколько лет у нас аптека. Знаешь, сколько смертей я видела? И младенцев, коих спасти не смогли, и детей постарше, коих лихорадка унесла, и матерей, умерших от родильной горячки, и сильных мужчин, что умирали от пустяшной раны, потому как слишком поздно к врачевателям пришли. И каждая смерть – еще и чье-то горе. Не всех спасти можно, как ни старайся. Божья воля человеку неподвластна. Сердце-то, оно болит за каждую душу ушедшую, да только слезы уже высохли. Одной молитвой и спасаешься.
Женщины долго еще сидели, тихо беседуя, обсудили и несчастную долю матерей, и опасности, что подстерегают всех в большом городе. Лукумадесы они вдвоем все-таки сьели. Что лучше успокоит взволнованную душу, чем беседа с доброй подругой и тающая во рту выпечка?