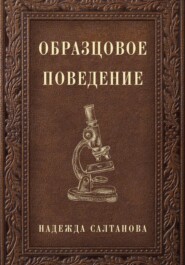По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Яд Империи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В долгу, так в долгу. Я за тобой пошлю, если узнаю что.
Выйдя от Клавдии, Нина наняла носилки, чтобы довезли ее до третьего холма. Пока добирались через толкотню Мезы, а потом по тесным улочкам, ведущим к кузнечному кварталу, Нина в задумчивости перебирала кисти на покрывале, она никак не могла понять, за что отравили мальчишку. Ни денег, ни иной выгоды она в том не видела. Если только бесноватый опять какой появился, но что-то сложно тогда. Был один изуверг, тот, что девушек в лупанарии[16 - Лупанарий – публичный дом] резал. Так его изловили и казнили. Но то ж ножом, что у каждого ремесленника найдется. Четверых насмерть замучал, а двоих только поранил, да вовремя помощь подоспела. Нина тогда помогала девиц выхаживать, в лупанарий тот ходила сама. Со всеми там перезнакомилась, хозяйка теперь к ней регулярно посылала за снадобьями. А некоторыми и сама с Ниной поделилась, коими с древних времен в таких домах спасаются да сохраняются.
Потом прознали и из других ночных заведений, так тоже к аптекарше стали присылать то за красой, то здоровье подлатать. Нина девушек из лупанариев жалела, не брезговала. Труд он везде труд, а женщине прожить в Большом городе сложно. Истории они рассказывали свои, аж сердце щемило. Ну да ни о том сейчас.
В аптеках, конечно, есть яды. И болиголов, он же аконит, и дьявольская вишня, что венецианцы называют белладонной, и змеиный яд. Так то ж в малом количестве исцеляет, порой меньше капли достаточно. Но если полную чашу такого лечебного настоя налить, да больному подать, так можно сразу и отпевание заказывать. Поэтому яды на строгом учете у всех аптекарей, а тот, которым, похоже, мальчика отравили, аптекари и не держат. Известный яд, с историей нехорошей. Где ж этот душегуб взял его и зачем травил, да еще ребенка. У Нины прямо душа застывала каждый раз, как вспоминала она худенькую фигурку на влажном песке.
В кузнечном квартале стоял гулкий звон от ударов молотов. Пахло дымом, раскаленными камнями, стряпней. Туда же примешивался кислый запах охлаждаемого каленого железа. Дома здесь стояли пошире, чем в городе – боялись пожаров. Нина, остановив на дороге босоногого пацаненка, спросила, из какой кузницы подмастерье убили. Тот показал на второй дом слева. Во дворе там было шумно, голосила женщина, кто-то громко что-то объяснял, стучали молотки. Нина, перекрестившись, выбралась из носилок, велела подождать.
Войдя во двор и увидев женщину, которую поддерживал за локоть юноша в короткой, перепачканной сажей тунике, Нина быстро направилась к ней. Та едва держалась на ногах, кричала что-то невразумительное кузнецу. Сам кузнец стоял, опустив голову и мрачно смотрел на женщину исподлобья. Переведя взгляд на Нину и увидев, как та решительно двинулась к кричавшей, он облегченно вздохнул, опустил плечи. Хотел было что-то сказать, но, сжав зубы, молча развернулся и ушел в кузницу.
Нина помогла усадить женщину в тени на перевернутый чан, опустилась рядом, достала из корзинки кувшинчик, запечатанный промасленной тканью, заставила выпить несколько глотков. Та, обессиленная от криков и слез, не сопротивлялась. Нина что-то ей шептала, гладила по плечу, уговаривала. Через какое-то время несчастная мать успокоилась, лишь раскачивалась, всхлипывая. Нина вывела ее к носильщикам, заплатила, чтобы довезли, вложила ей в руку кувшин с остатками питья, спросила где живет. Пообещалась проведать на днях.
Вернувшись в кузницу, поговорила с хохяином, посочувствовала. Он был немногословен, про подмастерье рассказал лишь то, что Нине уже доложила Клавдия. Спросил:
– А ты к нам по какой надобности, почтенная?
Нина заказала выковать ей тонкий и прочный нож, чтобы корни резать можно было легче, не передавливая, чтобы соки не терять. Нарисовала прямо на земле во дворе форму лезвия, показала размер на руке кузнеца. Тот покивал, назвал цену, Нина поторговалась для приличия, и сговорились.
Ничего не выяснив про убитого мальчика у хозяина, Нина попробовала разговорить подмастерье. Тот был напуган, отмалчивался. Только шмыгал носом и твердил: – “Прости, госпожа, не помню, не видел”. И когда Нина уже с досадой отвернулась, он тихо произнес:
– Красивая у тебя накидка, госпожа. Почти как туника у господина под плащом, что с Трошкой говорил.
Нина, сдерживаясь, чтобы не напугать пацаненка, спокойно сказала:
– Ты любишь красивую одежду?
Тот закивал:
– Я всегда к большому собору бегаю, когда василевс в праздник выходит. Ох и красивые же у них накидки, с блеском, да камнями расшитые, а на головах как горшки и тоже все переливаются на солнце. А на пальцах…
Нина прервала его:
– А тот, кто с Трошкой говорил – какая была на нем одежда?
– Плащ был простой, темный и старый. А из под плаща туника видна была, когда он рукой Трошке махнул. Красивая – золотистая, с узором по краю, с райскими птицами с длинными хвостами.
– А друг твой с этим господином где разговаривал?
– На площади возле Воловьего форума. Там вору, что давеча кувшин вина уволок, руку рубили. Мы посмотреть бегали. Только Трошка с тем господином особо не разговаривал. Его позвали да показали монету, он пошел. Я тоже хотел пойти, но Трошка меня оттолкнул и сказал, что сам управится. Это он чтобы не делиться. Жадный он был и вредный. – тут мальчишка понял, что про покойника сказал, ойкнул, закрыл рот рукой покраснев.
Нина его успокоила, дала медную нуммию[17 - Нуммия – мелкая медная монета], да наказала найти ее аптеку и рассказать, если он этого господина опять где увидит. Тот сразу спрятал монету куда-то в складки грязного пояса.
Нина отправилась домой. Идти пришлось долго, устала. Купила горячую лепешку у уличного торговца, съела прямо на ходу. Напоследок успела зайти к Гликерии, запаслась парой нежных рогаликов, да свежим хлебом.
––
Солнце уже клонилось к морю, раскрашивая гавань багровыми отблесками. Нина убирала травы с навесов, переливала остатки снадобий в бутыли, привязывала кусочки мешковины с надписями на них. Выбрасывала те, что поменяли запах или цвет. Смесь запахов была острой, пряной, от них щекотало в носу. Чтобы впустить в комнату немного свежего воздуха, Нина распахнула занавеску, что загораживала вход, и отпрянула, увидев у самых дверей Никона. Схватившись за сердце, Нина перевела дух, склонила голову:
– Бог в помощь, почтенный Никон. Напугал ты меня. Почто, как тать, стоишь у входа, не постучишь, не позовешь?
– Считай что постучал. Пригласишь, или на виду у соседей разговаривать будем? – Сикофант бросал слова неприязненно, резко.
Нина торопливо посторонилась. Нехорошо это, если слухи пойдут, ни к чему ей слухи, и как вдове, и как аптекарю.
– Проходи, почтенный.
Предложив гостю скамью с подушками, набитыми травами, Нина присела на квадратную свою рабочую скамейку, напряженно выпрямившись и сминая в руке складки столы.
Никон молча осматривал комнату с полками, заставленными бутылями, глиняными горшочками, кувшинами. В полутемных углах едва угадывались пучки трав, подвешенные к потолку. На столе свеча, три ступицы разного размера, ножики, деревянные полированные дощечки. Мраморная плитка стоит в стороне, прикрытая вощеной тряпицей. В корзине за столом еще какие-то медные посудинки, крючки и лопатки, веревки, чистая холстина, сложенная вчетверо. Маленькая печь подмигивала красными углями потухая. Рядом поблескивали глазурными боками глиняные горшки, в которых, видать, увариваются снадобья. Свет закатного солнца падал через занавеску на двери и вспыхивал на склянках. Пряные запахи все еще кружили в небольшой комнатке.
Никон кашлянул, многозначительно посмотрел на кувшин вина, что стоял поодаль. Нина молча взяла с верхней полки глиняную чашу, наклонив кувшин, налила сикофанту тягучий ароматный напиток. Хотела было развести водой, но тот покачал головой. Нина подала чашу. Пока гость пил, молчала, глядя в сторону.
Наконец тот отставил чашу, проронил:
– Ну рассказывай, что узнала. Где шастала? Какие бабьи сплетни собрала?
Нина вздохнула.
– Что же ты так со мной разговариваешь, почтенный Никон, как с гулящей какой? – медленно и спокойно начала она. – Я женщина уважаемая в городе, законы блюду, никто обо мне плохого слова не скажет. С чего это ты вдруг оскорблять меня решил? Что узнала – расскажу, но и ты уж сделай одолжение, не позорь ни меня, ни себя таким обращением.
Никон нахмурился:
– Рассказывай уже, не толки воду в ступице. Ох уж мне ваши бабьи кривотолки…
Нина вкратце поведала про поход к кузнецу и про шелковую тунику, что глазастый подмастерье разглядел.
– Узор-то редкий, богатый, – тихо добавила Нина в конце рассказа.
Никон в задумчивости помолчал. Потом фыркнул:
– Вот еще и про тряпки шелковые мне тут с тобой беседовать. Вот уж бабы, все об одном только и мыслите. Толку-то от твоей аптеки, если одни тряпки и притирания в голове?!
– Ой, ты, почтенный, опять ту же дуду завел. На-ка вот лучше, я тут тебе корзинку собрала. У тебя ж двое детей-то? Вот я им рогаликов из пекарни Феодора припасла. А для жены твоей вот притирания с лавандой и медом. От них кожа прямо светится, у меня даже из дворца такое заказывают. А тебе вот вина кипрского, да бутыль отвара от головной боли.
Никон смутился, нахмурился.
– Откуда узнала про головную боль?
– Да я, уважаемый Никон, не вчера аптекарствовать то начала, вижу уже по лицу, да по поведению людей что им жить мешает. Ну да ты попробуй, не поможет, другое средство подберем. Главное все сразу не выпивай, по полчаши на четверть секстария перед сном, да поутру, но после трапезы непременно, – сыпала словами Нина, укладывая в корзинку все заново.
– Погоди, что ты там про дворец-то сказала? Кто к тебе присылает?
– Кто присылает, сказать не могу, да только раз попробовали и вот заказывают. Ты не думай – твоей жене понравится.
Никон фыркнул, но уже примирительно сказал:
– Да что мне-то до того, понравится или нет. Раз богачи заказывают, значит, и ей сгодится.