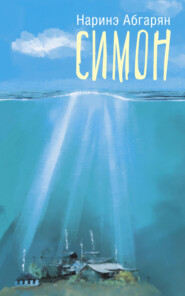По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
С неба упали три яблока. Люди, которые всегда со мной. Зулали (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Распаленная беспардонным отношением мужа, Магтахинэ принималась громко, так, чтобы слышно было, в первую очередь, ему, жаловаться на свою никчемную судьбу, на отца с матерью, которые, чтобы отделаться от нее, выдали замуж за этого неотесанного чурбана, хотя остальных своих дочерей они устроили в приличные семьи, особенно младшую, любимицу Шушаник, ей, кстати, собрали самое богатое приданое – три ковра, два сундука с бельем, участок плодоносной земли, три коровы, свиноматку и двадцать несушек и золота столько, что если бы она навесила его разом, то переломила бы свой жалкий хребет, а Магтахинэ выделили на приданое в два раза меньше всего, и украшений не золотых, а серебряных, но время все расставило по своим местам, остальные дети, не иначе как в наказание за несправедливое отношение родителей к Магтахинэ, покинули мир первыми, старшие сестры не пережили голода, единственный брат погиб от удара молнии, а любимица Шушаник вообще умерла от тяжелого приступа сердечной жабы, захлебнувшись рвотой, так что пришлось родителям до конца своих дней надеяться на Магтахинэ, и она, конечно же, не подвела, всегда была рядом, преданная и любящая, ухаживала и оберегала, выносила за отцом, когда у него совсем отнялись ноги, горшок, прикладывала горячие уксусные компрессы к пяткам матери, чтобы унять бесконечные приступы мигрени, участившиеся после того, как покинула бренный мир Шушаник, но потом умерли отец с матерью, отец ушел первым, в день шестидесятилетия дочери, и теперь каждый свой день рождения она проводит на кладбище, ухаживая за его могилой, а следом за отцом ушла мать, предварительно вымотав дочери последние нервы, потому что к концу жизни она умудрилась безвозвратно двинуться головой, ходила под себя, а потом разрисовывала этим добром стены и полы, пришлось запереть ее в комнате, чтобы она не распространяла свои художества по всему дому, когда она умерла, Магтахинэ собственноручно снимала штукатурку, чтобы заново отремонтировать комнату, и росписи на этих несчастных четырех стенах было немало, кишечнику покойной, в отличие от мозгов, работал исправно и безотказно, ну еще бы, испражняться – не головой думать, но теперь, когда все родные умерли, она осталась совсем одна, если не считать мужа-чурбана, с которым даже двумя словами не перекинешься, раньше с матерью можно было через запертую дверь поговорить, она хоть и выжила из ума, но умела поддержать разговор, ты ей одно, она тебе другое и невпопад, но хоть какое-то живое общение и участие, и за что ей выпала такая горькая планида, быть недолюбленной всеми и уйти нелюбимой, как та старая собака, которую и пристрелить жалко, и кормить не с руки, все равно ведь подохнет!
Немного отведя душу, Магтахинэ, кряхтя, вылезала в окно и, сыпля проклятиями, осторожно нащупывая каждую ступеньку подошвой изношенной туфли, спускалась по деревянной лестнице, которую всегда держала под подоконником комнаты, где ее запирал муж. Василий к тому времени сидел в кузне, коротая праздный день, и, попыхивая трубкой, вспоминал годы, когда работы было столько, что спины не разогнуть, а загруженная домашними хлопотами жена была тиха и кротка, как снежная ночь.
Магтахинэ была уверена, что переживет мужа, так всегда и говорила ему – что я буду делать, когда ты умрешь, но получилось совсем наоборот: полезла в самый солнцепек пропалывать грядки – и упала замертво, сраженная кровоизлиянием в мозг. Василий оплакивал ее, мучительно долго привыкая к душной тишине, разлившейся вязкой тиной по дому. Несмотря на занозливый характер, Магтахинэ была хорошей женой, не сказать что ласковая, как раз ласки ему всю жизнь не хватало, но преданная и заботливая, и всегда рядом, в горе и в радости, в достатке и в нищете.
С хозяйством теперь помогала телеграфистка Сатеник, приходившаяся Василию троюродной сестрой. Она надоумила его обратить внимание на Севоянц Анатолию. Василий сначала пропускал ее слова мимо ушей, но сестра не унималась – ей-де самой почти восемьдесят, сегодня она есть, а завтра ее нет, а брат, может, и хороший мастер кузнечных дел, но в хозяйстве как дитя малое, ни приготовить, ни постирать не умеет, да и одиночество для мужика пуще самой страшной болезни, а Анатолия молодая еще, красивая, опять же одинокая и молчаливая, как он любит, так почему бы им не сойтись?
– И главное, – выдвинула самый весомый аргумент Сатеник, – умненькая, вон сколько книг прочитала!
Сестра, конечно же, знала, на что надавить. Василий с детства питал огромное уважение к образованным людям. Будучи безграмотным крестьянином – школы в те годы в Маране не было, а нищая мать не смогла бы оплатить его обучение в долине, – он из кожи вон лез, чтобы дать хорошее образование сыновьям. Да и надежды самому научиться грамоте не терял. Одно время в Маране собирались открыть вечернюю школу, чему Василий несказанно был рад, но потом случился голод, выкосивший половину населения деревни, и разговоры о вечерней школе, прекратились.
Война отняла у него младшего брата и сыновей. Сыновей забрали на фронт из учебной академии, так что у Василия и Магтахинэ не было возможности даже попрощаться с ними. А брата забрали прямо из кузни. Василий до сих пор помнил его взгляд – растерянный, враз ставший детским – и воздетую вверх ладонь левой руки с глубоким шрамом там, где кривая линия жизни, огибая большой палец, уходила вбок. Шрам остался после того, как Василий, не удержав форму с расплавленным металлом, выронил ее на землю. Одна из брызнувших капель, угодив брату в ладонь, прожгла ее почти насквозь. Рана заживала долго и мучительно, гноилась и кровила, Шлапканц Ясаман извела на нее все запасы своих лечебных мазей. К тому времени, когда ожог, наконец, зарубцевался, и брат снова смог взяться за кузнечный молот, подоспела война. У Василия немела ладонь каждый раз, когда он вспоминал о брате. Он хмурился, кряхтел, нарочито долго тер руку, скрипел желваками и часто моргал – чтобы отогнать слезы. О сыновьях своих он никогда не вспоминал – запретил себе раз и навсегда, еле оправившись от той чудовищной боли, которую пережил, получив известие об их гибели. Он и жене запретил упоминать имена сыновей в своих бесконечных монологах.
– Вот когда умрем и встретимся с ними, тогда и наговоримся.
Магтахинэ неожиданно легко согласилась и никогда при муже не произносила их имен, Василий, тронутый ее сговорчивостью, какое-то время терпеливо сносил ее безбрежный словопоток, пока однажды, вернувшись домой раньше обычного времени, не обнаружил жену стоящей перед зеркалом с фотокарточками сыновей в руках – мерно раскачиваясь и переводя взгляд с одной фотографии на другую, она жаловалась на свою судьбу: на их немощного деда, прикованного к креслу-качалке, сиденье которого Василий переоборудовал таким образом, чтобы можно было отодвинуть в сторону заслонку и подставить горшок, не поднимая старика, Магтахинэ пришлось перешить ему штаны, чтобы он справлял нужду не снимая их, по-другому никак, жаловалась она, мне его не поднять, а подсобить некому, отец ваш пропадает в своей кузне с восхода и до самого заката, а от бабки толку никакого, только и знает, что шастать по соседям да сплетни собирать, странная какая-то стала, это ей не так и то не эдак, иногда грешным делом думаю, что она головой тронулась, на днях застала ее в погребе, сидит в уголочке, чуть ли глазами мне не светит, пережидаю, говорит, ветер, я ей говорю – какой ветер, мама, она мне в ответ – тебе не понять какой, я ей говорю – куда уж мне с моим недалеким умом тебя понять, другое дело твоя любимая Шушаник, а она как услышала имя вашей младшей тетки, как вскочила, как заверещала, как заметалась по погребу, чуть все карасы не перебила, угомонила я ее кое-как, привела домой, напоила мятным чаем, натерла виски тутовкой, она вроде успокоилась, месяц тихая была, а вчера снова учудила – пришла к Ейбоганц Валинке, встала на пороге ее дома, зови, говорит, твою мать, есть у меня к ней разговор, это она с Ейбоганц Катинкой собралась пообщаться, которая преставилась чуть ли не пол века назад, хорошо, что Валинка на ее слова не обиделась, сразу поняла, что на ясную голову человек такое вытворять не будет, завела ее в комнату, усадила на тахту, подожди, говорит, немного, сейчас позову свою маму, а сама прибежала ко мне, мол, так и так, Магтахинэ, мать твоя, кажется, не в себе, пришли мы к ней, а бабка ваша сидит на полу обложившись мутаками, словно шахиня, подайте нам, говорит, халвы с кунжутом и грвакан изюма, да проследите, чтобы изюм был без косточек, а потом поворачивается к голой стене и начинает разговаривать с ней, называя ее Катинкой.
На следующее утро, улучив минуту, когда жена ушла в огород, Василий завернул фотокарточки сыновей в газету, отнес Сатеник и попросил спрятать в таком месте, где до них не сможет добраться Магтахинэ. Сатеник забрала у него сверток, только спросила, зачем он так сурово поступает с женой.
– Она мне всю плешь жалобами проела, а теперь за сыновей взялась. Не дам их покой тревожить! – отрезал Василий.
Сатеник долго ходила по дому в поисках укромного места, в итоге положила фотографии в металлическую баночку из-под монпансье и убрала на самое дно бельевого сундука, под ситцевые мешочки с сушеной лавандой и нафталином. Обнаружив пропажу, Магтахинэ поостереглась устраивать мужу скандал, прибежала с жалобами к золовке. Сатеник пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не выдать себя. После долгих увещеваний ей удалось убедить невестку не заводить с Василием разговор о пропавших фотокарточках. Магтахинэ к ее совету прислушалась, но затаила на мужа большую обиду и в отместку обогатила полноводное течение своих бесконечных сетований новыми туманными намеками на то, что даже самому бездушному чурбану не под силу стереть образы любимых людей из ее сердца, потому что оно у нее большое и бездонное, не под стать жалким сердцам тех, кто способен без зазрения совести унести из дома самое дорогое, что было, есть и будет у каждой самоотверженной, любящей и несчастной матери, и если эти черствые сердцем люди умеют запереть свое горе под замок, то она этого сделать не в состоянии, потому что силы у нее на исходе, и душа ее – что тот зверь, угодивший в капкан, которому не освободиться и не умереть, а лишь униженно ждать своей неминучей и страшной кончины. Василий сносил ее жалобы молча, хмурился и кряхтел, уходил в кузницу, сидел возле холодной печи допоздна, дымил трубкой и без конца потирал левую ладонь – в тщетной попытке унять ноющую боль.
После смерти Магтахинэ Сатеник собиралась вернуть брату фотокарточки сыновей, но потом решила повременить – пусть сначала он немного опомнится от горя. И теперь эти снимки, благодаря жестяной коробке из-под монпансье благополучно пережившие холод и нашествие плесени, перекочевали из бельевого сундука в деревянную шкатулку и терпеливо ждали часа своего возвращения под отцовское крыло.
Меж тем Сатеник взялась устраивать личную жизнь брата. Первым делом она перекинулась несколькими словами со Шлапканц Ясаман. Обрадованная возможностью положить конец одиночеству подруги, Ясаман обещала поговорить с Анатолией. Заручившись ее поддержкой, Сатеник принялась уговаривать брата. Василий сначала отмахивался, не принимая ее слова всерьез, но потом скрепя сердце согласился, потому что сам отлично знал, что мало чего найдется на свете мучительнее одинокой старости.
Относился Василий к Анатолии с большим уважением, несколько раз, еще до войны, намеревался заглянуть в библиотеку, чтобы выпросить себе самоучитель по чтению, но всегда, досадно робея, проходил мимо, оттого что однажды видел, как Анатолия, обмотав метлу ветошью и обильно намочив ее в слабом растворе уксуса, моет каменную стену под ласточкиными гнездами, бережно обводя каждое гнездо по низу, чтобы нечаянно не зацепить его и не обрушить. Вспомнил себя, молодого и пустоголового, способного на спор убить ни в чем не повинного быка, – и усовестился. Вот она, разница между человеком грамотным и неграмотным, думал Василий, уходя прочь от библиотеки в свою жаркую кузницу, грамотный боится порушить пустое гнездо, а неграмотный готов дух из невинной животины вышибить, лишь бы доказать свою дурную силу.
– Она умная, начитанная, зачем ей такой неотесанный чурбан, как я! – поделился он своими сомнениями с троюродной сестрой.
– Муж тоже у нее умный и начитанный был? – хмыкала Сатеник. – Этот бездушный ирод ее смертным боем бил, а она, такая грамотная, терпела. Посмотри на себя – ты порядочный, работящий, надежный. Ни разу на Магтахинэ руки не поднял, хотя она, царствие ей небесное, много раз напрашивалась на приличный нагоняй. Грамотность, Васоджан, не тут должна быть, – Сатеник постучала пальцем по лбу брата, – а вот здесь, в сердце, – и она приложила ладонь к его груди.
Уступив ее уговорам и, дождавшись, когда табак выйдет, Василий засобирался к Ованесу. Прикупил курева, заодно, запинаясь и смущенно откашливаясь, спросил об Анатолии. Ованес не дал ему договорить:
– Я буду только рад, если вы сойдетесь. Правда, Ясаман говорит, что Анатолия не настроена на новый брак, но ты же знаешь женщин. Сегодня у них одно на уме, завтра – обратное. Дай ей время пообвыкнуться с этой мыслью. Там видно будет.
С того дня Василий часто заглядывал к Ованесу и Ясаман, поговорить о том о сем и в нарды перекинуться. Однажды он застал у них Анатолию, вежливо поздоровался, но та, отчего-то расстроившись, взяла у Ясаман соли и заторопилась уходить.
– Дочка, ты вроде жаловалась, что коса притупилась, попроси Василия наточить ее, – сделал попытку задержать ее Ованес.
– Спасибо, не надо, я уже наточила, – мягко отказалась Анатолия и направилась к входной двери.
– Упрямая, как ишак. Вся в своего отца, – дождавшись, когда она уйдет, развел руками Ованес.
– Она дочь своего отца, а я – сын своего. Посмотрим, кто кого, – хмыкнул Василий.
Ованес тогда хлопнул себя по коленям и рассмеялся. А теперь, пряча улыбку в бороду, наблюдал, как бликуют на солнце тщательно наточенное острие и отполированная до блеска рукоять косы, которую Василий нес на своем плече.
– Я смотрю, с гостинцем пришел, – крякнул Ованес.
Василий пошел вверх по лестнице, цепляя лезвием косы виноградную лозу, увивающую перила и деревянные подпорки веранды.
– Может, внизу оставишь инструмент? – не вытерпел Ованес.
Василий смешался, снял с плеча косу, прислонил ее к перилам таким образом, чтобы она не опрокинулась.
– Я это. К Анатолии собрался. Косу ей новую сделал, раз старая затупилась.
– А чего домом промахнулся?
– Да вот… Вчера к заходу солнца зашел – а у нее свет везде погашен. Пришел с утра – птица не выпущена из курятника и двор сухой, видно, что водой не обрызгивали и не подметали. Постучался в дверь – не открывает.
– Ну, может, спит еще.
– Может, и спит. Я чего хотел попросить, Ованес. Пусть Ясаман сходит к ней, узнает, как она там.
– Она травы заваривает. Закончит – сходит. Но вообще, – проговорил со значением Ованес, – я бы на твоем месте сам это дело до конца довел, раз, слава богу, все-таки решился.
Василий почесал затылок, снова взвалил на плечо косу.
– Пойду постучусь еще раз.
– Косу хотя бы оставь. Ходишь с ней, как привязанный. Никуда она не денется, потом отнесешь.
– Нет, я лучше так.
– Нуда, с инструментом сподручней женихаться.
– Чего?
– Говорю – удачи. Зайди потом, расскажи, чего там у тебя вышло.
Дождавшись, когда Василий скроется за калиткой, Ованес нацепил трехи, заправил внутрь шнурки, чтобы не путались под ногами, и заторопился в подсобку – к жене. Ясаман как раз процеживала через марлю в бутыль темного стекла остывший отвар. В комнате крепко пахло сухими травами и кизиловой самогонкой, на которой она неизменно настаивала лечебные снадобья.
– Слышишь, Ясаман. – Ованес тщательно притворил за собой дверь, чтобы не пропустить в помещение губительные для настоек солнечные лучи.
– С кем это ты там разговаривал?
– С Василием. Говорит – Анатолия ему дверь не открывает.
– Как это не открывает?
– А вот так. Видно, косы испугалась.
Ясаман замерла с ситечком в руке.
– Какой косы?