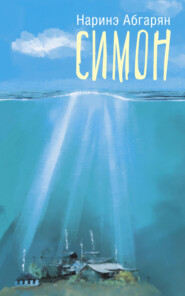По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
БеспринцЫпные чтения. От «А» до «Ч»
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Было шумно, мимо нас в обе стороны шли люди.
– А-а… – чтобы показаться вежливым, я всей физиономией изобразил узнавание и выдавил улыбку… – Здрасьте… А вы… это какими тут, как говорится, судьбами… живете здесь, да?
Муж Маши Сидоровой насупился и коротко кивнул. Живу, мол. Повисла пауза.
– Ладно, – произнес я, наконец, и, чтобы выглядеть любезным, а главное поскорее закончить разговор, добавил: – Маше большой привет.
Муж Маши Сидоровой взглянул на меня, будто не понимая, и вдруг лицо его сделалось бешеным.
– Маше?! – закричал он. – Маше привет?! Какой еще «привет»?! Мы с ней развелись пять лет назад! Она мне изменила!
Я сочувственно покачал головой и поспешил откланяться.
– Привет… привет еще ей, стерве, передавать! Не на того напал… – слышал я за спиной.
Оказался, как видите, виноват.
А ведь всего-навсего хотел показаться вежливым.
Андрей Аствацатуров
Александр Боровский фиксирует дух советского периода и дает тонкую, ироничную и в то же время теплую оценку всему тогда происходящему. При этом не хулиганит как Цыпкин, а последовательно и деликатно умиляется истории.
Юлия Хлынина, Российская актриса театра и кино
Ван Эйк
Мне лет десять. Гурзуф, Дом творчества художников. Там был директор, крупный, ядреный, не старый еще человек, седовласый. Отличался, по контрасту с благородной внешностью, чрезвычайной угодливостью к художникам «в силах»: академикам, секретарям творческих союзов и пр. Встречал, провожал, подсаживался в столовой. Моим родителям он чрезвычайно не нравился: во-первых, пытался не пускать меня в номер – якобы детям нельзя. На самом деле детям начальников было можно. Меня же и других не номенклатурных детей втаскивали в окна первого этажа на простынях, поначалу и до того доходило. Потом утряслось. Но главное, директор раздражал именно этой искательностью, уже несколько старомодной по тем временам. Он перебарщивал, это и старшие товарищи понимали. Однако принимали с улыбочкой: чего же вы хотите – старая школа, отставной энкавэдист. И тут происходит следующее. Приехала отдыхать художница из Киева, старая еврейка (это я потом из разговоров родителей узнал, но не очень тогда представлял, что это слово значит), больная, с трудом поднимавшаяся по ступенькам. Неноменклатурная – директор ее не встречал. Случайно столкнулись в вестибюле. И мы там оказались, шли с пляжа, что ли. И вот эта пожилая женщина, увидев директора, впала в истерику.
– Это он, он пытал меня в тюрьме в Могилеве, перед войной. Подлец, инвалидом сделал. Это он, старший лейтенант такой-то.
Что-то на о… Криворученко? Не помню… Кстати, у директора была другая фамилия, что не удивительно, как я теперь понимаю. Кадры берегли. Тех, кого не расстреляли под горячую руку на антибериевском пике, снабдили новыми фамилиями и пристроили втихую на хлебные места.
– Помнишь меня, мерзавец?
Директор, надо сказать, отнесся ко всему хладнокровно. Видно, не впервой ему попадались бывшие: все-таки дом творчества художников, контингент сложный, засоренный. Он бочком-бочком ретируется. И попадает в руки к оказавшемуся рядом отцу с его физической крепостью и всегдашней готовностью дать плохому человеку по морде. В данном случае подогреваемой очевидностью ситуации: сталинский палач, холеный и сытый, жертва-инвалид. Время хрущевское, антикультовый заряд еще не иссяк. К тому же гад: пытался ребенка не пустить в комнату, а перед всякой сволочью выслуживается… Кара была неотвратима. Даже энкаведист смирился и кричал что-то совсем уж неприличное:
– Не я это был, обознались. – И отцу: – Ответите!
Даже мама не делала запретительных жестов. Собиралась небольшая толпа художников. Сочувствующих директору не находилось. Даже помощники отцу выискались. И уже белая холщовая рубаха директора (под поясок, тогда уже казавшаяся старомодной, безобидно бухгалтерской, из фильмов тридцатых годов) затрещала. И первый раз по загривку дали – хлопок такой резкий прозвучал. И тут появляется фигура Андрея Андреевича Мыльникова. В пляжной пижаме. Он уже, кажется, был академиком и лауреатом, профессором уж точно. Он удивительным образом сочетал в себе высокого эстета, эдакого прерафаэлита, и ленинградского убежденного карьериста. Конечно, и у него бывали срывы. На каком-то высоком съезде он выступал с речью от лица творческой общественности. Доверительно обращаясь к старцам президиума, сидевшим на возвышении под портретом Ленина его работы (эта чеканка на металлическом занавесе Дворца съездов присутствовала в телекартинке почти постоянно: в Кремле заседали и отмечали в режиме non-stop), он совершенно неожиданно вспомнил пушкинское: «Нет правды на земле. Но правды нет – и выше». Слава богу, это уведомление не было воспринято дремлющими старцами адекватно, Андрею Андреевичу повезло. Но в целом он строго соблюдал баланс. Такой вот этатический эстетизм. Словом, человеческий и творческий тип был незаурядный. Так вот, Андрей Андреевич подошел неслышно. Он мгновенно оценил ситуацию. Не то чтобы он сочувствовал энкаведисту, вовсе нет. В ленинградской интеллигенции, даже успешной и чиновной, жила затаенная ненависть к этому сословию. Были причины. Опытный Мыльников с ходу просчитал последствия. Скандал с возможными политическими нюансами никому не был нужен. Тем более скандал в его присутствии. Барски снисходительно он взял отца под руку. И показал на старинные напольные часы (бог знает, откуда попавшие в Дом творчества). Там, на бронзовом круглом маятнике, как в мутном выпуклом старинном зеркале, отражалась, с небольшим искажением, вся эта группа.
– Посмотрите, Дима, вылитый Ян ван Эйк. Чета Арнольфини.
С этими словами он достойно удалился. После такой высокой эстетической планки бить гада было уже несподручно. Дали пинка, и он исчез. Недели на две. Новую смену он уже встречал, как ни в чем не бывало: заискивал перед начальниками, отчитывал рядовых членов творческого союза. Пятьдесят лет прошло. Отца и матери уже нет. Мыльникова тоже. И когда бываю в Лондоне, в Национальной галерее, и когда просто попадется под руку репродукция, внимательно рассматриваю «Портрет четы Арнольфини»: молодой негоциант с женой, и на заднем плане – круглое зеркальце. Там эта пара, соответственно, изображена зеркально, зато виден художник в тюрбане и еще какой-то человек. И все. И никакого ответа.
Александр Боровский
Душечка
Тип чеховской Душечки у меня ассоциируется с одной искусствоведшей, Аленой Н. Очень милой женщиной, знающей, работавшей в московском музее. Я позвонил ей – дело было лет тридцать назад – после какого-то вернисажа, выпивший. Люди мы не местные, питерские. Как-то не озаботился, где в Москве переночевать, ну и напросился. Времена были легкие. К тому же знал, что она замужем. Так что никаких подводных камней быть не могло. Она легко согласилась, правда, предупредила: муж у нее уже другой, не тот, которого я знал, и просила ничему не удивляться. И вот я в квартире, раскланиваюсь с мужем, молодым человеком довольно странного вида: он был бородат; несмотря на позднее время и домашнюю ситуацию, одет в ветровку и вообще напоминал бесконечно далекий от нашего круга типаж итээровцев-туристов, из этих, «с гитарой за туманами». Вообще казалось, он только от костра, от мошкары, пропахший дымом… О дезодорантах большинство населения СССР вообще тогда не слыхивало… Как обещано, я не выказывал удивления. Но в комнате (а это была большая комната в коммуналке) раскрыл рот: посредине стоял большой надувной плот с какой-то – не знаю, как это называется, – каюткой-шалашиком посередине.
– Ты не удивляйся, – сказала Алена. – Мы теперь плотогоны. То есть мой муж плотогон, капитан плота, а я так, но экзамен на судовождение (или, скорее, плотовождение) уже сдала… По-настоящему будет, конечно, большой плот, а не надувной матрас, это мы так, привыкаем. Весной сплавляемся.
Мне постелили в коридоре на диванчике. Сами хозяева полезли в каюту-шалаш. Привыкали. Спал я плохо: снился то ли Енисей, то ли Ангара, бревна под ногами ходили. Под утро, никого не разбудив, крадучись, ушел. С огромным облегчением. Пару лет звонить побаивался. Встретились в Третьяковке на очередном вернисаже. Алена доложила, что все нормально, карьера в порядке, но муж уже другой. Говорила с таким нескрываемым трепетом, что я побоялся спросить – кто, чем занимается? К чему привыкают? Душечка.
Александр Боровский
Ум, достоинство, сдержанность, интеллект, юмор, точность – это Саша. В его прозе есть свой стиль, есть позиция, есть дыхание жизни. Он так просто пишет о сложном, что тебе кажется, что ты тоже так думал, просто не смог об этом именно так сказать. Он пишет о вечном и таком узнаваемом. Он пишет о любви! Невероятный кайф читать его вслух!
Максимова Полина, российская актриса театра и кино, телеведущая
Дима Большой
Черт знает, какие затычки вставляет взрослая жизнь в наши органы чувств. Вроде живешь в том же мире, что и в детстве, но вокруг вырастает кокон, сквозь который, если и проникают запахи этого мира, его прикосновения, его вибрации, то только в виде эха детских ощущений – пахнет осенью, как тогда, земля липкая, как тогда, замерзшие листья хрустят под ногой – все только как тогда. И, похоже, по-другому уже не будет…
У нас не было ни дачи, ни поместья, ни какого-нибудь гулкого особняка – у нас была только квартира в девятиэтажном доме и двор, к нему прилагавшийся. Удивительно, как может простой московский двор стать вселенной для ребенка! И сейчас, глядя на его скромность и обычность, даже не хочется думать, что волшебство детства может вот так же превратить во вселенную и барак, и комнату в коммуналке, и собачью конуру. Куда только девается эта непритязательность… И зачем я теперь стал такой притязательный?
Двор имел свое символическое начало во времени: вскоре после того, как мы въехали в новый дом, на пустыре за один день построили детскую площадку. Целиком деревянная, она состояла из (записывайте): резной горки с громыхающим скатом, резной спортивной обоймы (турник, шведская стенка, качели), страшного резного деда с домиком кормушки в перпендикулярных лапах, не менее страшного резного чебурашки, резных качелей в виде бревна на опоре. И песочницы. Всю эту желтую лакированную роскошь с удивительной для меня, ребенка, серьезностью расставляли и вкапывали взрослые мужики. Мы, дети, еще не знакомые друг с другом, вначале глазели на стройку, а потом – о, радость! – нам велели помогать. И мы что-то держали, что-то тащили… Чувствовать себя полезным – одно из самых дефицитных ощущений для маленького человека.
Так началось мое дворовое детство.
Двор был полон одним только нам известных тайн. Вот неприметная квадратная дверца в стене дома – взрослые проходят мимо, не обращая на нее внимания, но мы знали, что за этой дверцей прячется кран без вентиля. При помощи семейного ключа от велосипеда кран оживал и превращался в источник холодной воды, такой нужный летом, в сезон брызгалок (не домой же бегать их наполнять).
Вот кирпичный забор, у которого в верхнем ряду не хватает одного кирпича – ухватившись в прыжке за эту выемку, можно было взобраться, перелезть и обнаружить на той стороне крашеную крышу железного сарая. А сдвинув ее – она сдвигалась – покинутое голубиное гнездо, в гнезде яйца, а в яйцах (или вы думали, что десятилетнего мальчика может что-то остановить?) довольно противный эмбрион несостоявшегося, как теперь уже понятно, голубиного птенца.
Мы знали, где дворник хранит краску-серебрянку, как попасть на крышу, как украсть шампунь для брызгалки из окна хозяйственного магазина. В новый дом обычно въезжают молодые семьи, так что компания у нас была большая, росшая вместе через начальный, а потом средний школьный возраст.
Дима Большой (в отличие от малопримечательного Димы Маленького) был на самом деле не очень большим, щуплым и белобрысым, но зато самым старшим среди нас. Годам к пятнадцати он стал реже снисходить до игр с мелюзгой, но когда это случалось, наша компания сразу казалась мне значительней. Дима умел рассказывать. В осенних сумерках его ломкий голос уносил нас в сказочную страну взрослых, где пили вино и занимались настоящим сексом с настоящими женщинами-десятиклассницами (подозреваю, что все это он просто выдумывал на радость шпане). Дима Большой знал все анекдоты и похабные стихи, умел смешно показывать пьяных и курил. Были у него в запасе и приличные истории – он мог в деталях описать, как лежал прикованный под маятником с лезвием, – картина, которая оставила в моей фантазии сильное впечатление, и в которой я годы спустя опознал рассказ Эдгара По. Он здорово рисовал, знал правила всех игр, просвещал нас, какие марки машин круче, за какую команду надо болеть, какую группу слушать. Аргумент «Дима Большой сказал, что „Бони М“ – фуфло, а „Чингисхан“ – клево» был решающим в дискуссии о музыке.
Ровно в восемь с восьмого же этажа неизменно слышался зычный крик «Алёёёёшаа, дооомооой!», как две волны с подъемами на «лёёё» и «дооо», и Алеша всегда одинаково вначале пугался, потом, стесняясь, опустив глаза, бормотал «Мне пора» и убегал в свой третий подъезд. Он всегда уходил первым. «Беги скорее, – напутствовал его Дима Большой, – у мамки сиська остынет!» И мы смеялись, сплевывали между зубов, но потом тоже расходились, а Дима – Дима всегда оставался последним.
Паша был младше меня на год, жил в соседнем подъезде, а его папа ездил за границу. Однажды Паша вышел во двор с заморской диковинкой – дротиками. Оперенное шило втыкалось в дерево при любом броске, мы кидали дротики по очереди, сидя, стоя, лежа, из-за спины, на дальность и на точность. Дима Большой, дымя сигареткой, взялся за снаряд, спружинился и зашвырнул его вверх. Дротик взмыл к низким облакам и застрял в стволе тополя на уровне пятого этажа. «Батя меня убьет» – прошелестел Паша. «Тогда твой модный велик чур мой» – цинично ответил Дима.
Дротик можно было разглядеть, но снять его не представлялось возможным, несмотря на то что мы иногда залезали и выше – у нас во дворе росли высокие тополя, – именно этот экземпляр не оброс в нужных местах удобными ветками. И еще долго потом, гуляя или по дороге в школу, я поглядывал на тополиного пленника, с каждым годом чуть дальше отдалявшегося от земли. Я представлял, как он покрывается снегом зимой и сосульками весной, как он ржавеет под дождем… Мне казалось, что когда-нибудь я сниму его. Наверное, он и сейчас торчит из ствола, но, увы, я давно утерял способность разглядеть его. Потом я узнал, что Дима в тот же вечер пришел к Паше домой и взял ответственность за утраченный дротик на себя.
Зимой, когда острый морозный вдох пронзал ноздри до самого мозга, мы играли на утоптанном снегу в хоккей с мячом. И боль от удара плетеным мячиком по коленной чашечке была невыносимой, но короткой. И снятая шапка дымилась паром.
Весной, когда пустой и сухой воздух вдруг за ночь превращается из газа в жидкость, просвеченную лучом, наполненную щебетом, звоном, скрипом отпираемых окон, запахом таяния, хлюпаньем и шмыганьем, – наступало время игры в банки. Когда земля подсыхала, начинались ножички и футбол. Круглый год мы лазили по деревьям, падали с них, ломали руки и ноги, но когда к нам присоединялся Дима Большой, все почему-то кончалось тем, что он рассказывал, а мы слушали.
Он собирался поступать в Иняз, и многие из нас тоже, на удивление родителей, стали рассуждать о прелестях жизни переводчиков. Но так же резко, как он иногда сообщал нам что еще вчера всеми уважаемый Панасоник – это фуфло, а вот Филипс – это клево, так же неожиданно Дима Большой решил поменять жизненную траекторию и пойти в армию, потому что «только армия сделает из тебя настоящего мужика». Уже на излете нашего детства он уходил в военкомат с нарезанными хлебом и колбасой, и по дороге сел к нам на лавочку, покурить напоследок.
А потом детство кончилось совсем, колеса завертелись, зачарованный двор стал отдаляться со страшной скоростью, начались переезды… Когда я снова попал во двор, его было не узнать. Все пустые места заняли машины, даже футбольное поле закатали под стоянку, резная площадка истлела, появились новые заборы, а дети исчезли. У подъезда сидел Дима Большой, совсем уже небольшой, меньше меня. Я ему кивнул, мне показалось, что он пьян. Потом мне рассказали, что он вернулся из армии и начал пить. Шли годы, и каждый раз, когда я оказывался во дворе, его ссутуленная тщедушная фигура всегда была в поле зрения – он куда-то шел, шатаясь, или сидел на наших старых местах.
Нашим детям уже больше, чем нам было тогда. И хотя двор уже не тот, я все еще могу определить месяц по запаху, когда там оказываюсь. Мы выросли и разбежались, калейдоскоп больше никогда не сложится в тот узор, только запахи, только память и Дима Большой. Который отказался взрослеть и трезветь и, как дротик в стволе тополя, остался торчать в месте своего предназначения, остался навсегда во дворе.
Александр Маленков
Синее полотенце
– А-а… – чтобы показаться вежливым, я всей физиономией изобразил узнавание и выдавил улыбку… – Здрасьте… А вы… это какими тут, как говорится, судьбами… живете здесь, да?
Муж Маши Сидоровой насупился и коротко кивнул. Живу, мол. Повисла пауза.
– Ладно, – произнес я, наконец, и, чтобы выглядеть любезным, а главное поскорее закончить разговор, добавил: – Маше большой привет.
Муж Маши Сидоровой взглянул на меня, будто не понимая, и вдруг лицо его сделалось бешеным.
– Маше?! – закричал он. – Маше привет?! Какой еще «привет»?! Мы с ней развелись пять лет назад! Она мне изменила!
Я сочувственно покачал головой и поспешил откланяться.
– Привет… привет еще ей, стерве, передавать! Не на того напал… – слышал я за спиной.
Оказался, как видите, виноват.
А ведь всего-навсего хотел показаться вежливым.
Андрей Аствацатуров
Александр Боровский фиксирует дух советского периода и дает тонкую, ироничную и в то же время теплую оценку всему тогда происходящему. При этом не хулиганит как Цыпкин, а последовательно и деликатно умиляется истории.
Юлия Хлынина, Российская актриса театра и кино
Ван Эйк
Мне лет десять. Гурзуф, Дом творчества художников. Там был директор, крупный, ядреный, не старый еще человек, седовласый. Отличался, по контрасту с благородной внешностью, чрезвычайной угодливостью к художникам «в силах»: академикам, секретарям творческих союзов и пр. Встречал, провожал, подсаживался в столовой. Моим родителям он чрезвычайно не нравился: во-первых, пытался не пускать меня в номер – якобы детям нельзя. На самом деле детям начальников было можно. Меня же и других не номенклатурных детей втаскивали в окна первого этажа на простынях, поначалу и до того доходило. Потом утряслось. Но главное, директор раздражал именно этой искательностью, уже несколько старомодной по тем временам. Он перебарщивал, это и старшие товарищи понимали. Однако принимали с улыбочкой: чего же вы хотите – старая школа, отставной энкавэдист. И тут происходит следующее. Приехала отдыхать художница из Киева, старая еврейка (это я потом из разговоров родителей узнал, но не очень тогда представлял, что это слово значит), больная, с трудом поднимавшаяся по ступенькам. Неноменклатурная – директор ее не встречал. Случайно столкнулись в вестибюле. И мы там оказались, шли с пляжа, что ли. И вот эта пожилая женщина, увидев директора, впала в истерику.
– Это он, он пытал меня в тюрьме в Могилеве, перед войной. Подлец, инвалидом сделал. Это он, старший лейтенант такой-то.
Что-то на о… Криворученко? Не помню… Кстати, у директора была другая фамилия, что не удивительно, как я теперь понимаю. Кадры берегли. Тех, кого не расстреляли под горячую руку на антибериевском пике, снабдили новыми фамилиями и пристроили втихую на хлебные места.
– Помнишь меня, мерзавец?
Директор, надо сказать, отнесся ко всему хладнокровно. Видно, не впервой ему попадались бывшие: все-таки дом творчества художников, контингент сложный, засоренный. Он бочком-бочком ретируется. И попадает в руки к оказавшемуся рядом отцу с его физической крепостью и всегдашней готовностью дать плохому человеку по морде. В данном случае подогреваемой очевидностью ситуации: сталинский палач, холеный и сытый, жертва-инвалид. Время хрущевское, антикультовый заряд еще не иссяк. К тому же гад: пытался ребенка не пустить в комнату, а перед всякой сволочью выслуживается… Кара была неотвратима. Даже энкаведист смирился и кричал что-то совсем уж неприличное:
– Не я это был, обознались. – И отцу: – Ответите!
Даже мама не делала запретительных жестов. Собиралась небольшая толпа художников. Сочувствующих директору не находилось. Даже помощники отцу выискались. И уже белая холщовая рубаха директора (под поясок, тогда уже казавшаяся старомодной, безобидно бухгалтерской, из фильмов тридцатых годов) затрещала. И первый раз по загривку дали – хлопок такой резкий прозвучал. И тут появляется фигура Андрея Андреевича Мыльникова. В пляжной пижаме. Он уже, кажется, был академиком и лауреатом, профессором уж точно. Он удивительным образом сочетал в себе высокого эстета, эдакого прерафаэлита, и ленинградского убежденного карьериста. Конечно, и у него бывали срывы. На каком-то высоком съезде он выступал с речью от лица творческой общественности. Доверительно обращаясь к старцам президиума, сидевшим на возвышении под портретом Ленина его работы (эта чеканка на металлическом занавесе Дворца съездов присутствовала в телекартинке почти постоянно: в Кремле заседали и отмечали в режиме non-stop), он совершенно неожиданно вспомнил пушкинское: «Нет правды на земле. Но правды нет – и выше». Слава богу, это уведомление не было воспринято дремлющими старцами адекватно, Андрею Андреевичу повезло. Но в целом он строго соблюдал баланс. Такой вот этатический эстетизм. Словом, человеческий и творческий тип был незаурядный. Так вот, Андрей Андреевич подошел неслышно. Он мгновенно оценил ситуацию. Не то чтобы он сочувствовал энкаведисту, вовсе нет. В ленинградской интеллигенции, даже успешной и чиновной, жила затаенная ненависть к этому сословию. Были причины. Опытный Мыльников с ходу просчитал последствия. Скандал с возможными политическими нюансами никому не был нужен. Тем более скандал в его присутствии. Барски снисходительно он взял отца под руку. И показал на старинные напольные часы (бог знает, откуда попавшие в Дом творчества). Там, на бронзовом круглом маятнике, как в мутном выпуклом старинном зеркале, отражалась, с небольшим искажением, вся эта группа.
– Посмотрите, Дима, вылитый Ян ван Эйк. Чета Арнольфини.
С этими словами он достойно удалился. После такой высокой эстетической планки бить гада было уже несподручно. Дали пинка, и он исчез. Недели на две. Новую смену он уже встречал, как ни в чем не бывало: заискивал перед начальниками, отчитывал рядовых членов творческого союза. Пятьдесят лет прошло. Отца и матери уже нет. Мыльникова тоже. И когда бываю в Лондоне, в Национальной галерее, и когда просто попадется под руку репродукция, внимательно рассматриваю «Портрет четы Арнольфини»: молодой негоциант с женой, и на заднем плане – круглое зеркальце. Там эта пара, соответственно, изображена зеркально, зато виден художник в тюрбане и еще какой-то человек. И все. И никакого ответа.
Александр Боровский
Душечка
Тип чеховской Душечки у меня ассоциируется с одной искусствоведшей, Аленой Н. Очень милой женщиной, знающей, работавшей в московском музее. Я позвонил ей – дело было лет тридцать назад – после какого-то вернисажа, выпивший. Люди мы не местные, питерские. Как-то не озаботился, где в Москве переночевать, ну и напросился. Времена были легкие. К тому же знал, что она замужем. Так что никаких подводных камней быть не могло. Она легко согласилась, правда, предупредила: муж у нее уже другой, не тот, которого я знал, и просила ничему не удивляться. И вот я в квартире, раскланиваюсь с мужем, молодым человеком довольно странного вида: он был бородат; несмотря на позднее время и домашнюю ситуацию, одет в ветровку и вообще напоминал бесконечно далекий от нашего круга типаж итээровцев-туристов, из этих, «с гитарой за туманами». Вообще казалось, он только от костра, от мошкары, пропахший дымом… О дезодорантах большинство населения СССР вообще тогда не слыхивало… Как обещано, я не выказывал удивления. Но в комнате (а это была большая комната в коммуналке) раскрыл рот: посредине стоял большой надувной плот с какой-то – не знаю, как это называется, – каюткой-шалашиком посередине.
– Ты не удивляйся, – сказала Алена. – Мы теперь плотогоны. То есть мой муж плотогон, капитан плота, а я так, но экзамен на судовождение (или, скорее, плотовождение) уже сдала… По-настоящему будет, конечно, большой плот, а не надувной матрас, это мы так, привыкаем. Весной сплавляемся.
Мне постелили в коридоре на диванчике. Сами хозяева полезли в каюту-шалаш. Привыкали. Спал я плохо: снился то ли Енисей, то ли Ангара, бревна под ногами ходили. Под утро, никого не разбудив, крадучись, ушел. С огромным облегчением. Пару лет звонить побаивался. Встретились в Третьяковке на очередном вернисаже. Алена доложила, что все нормально, карьера в порядке, но муж уже другой. Говорила с таким нескрываемым трепетом, что я побоялся спросить – кто, чем занимается? К чему привыкают? Душечка.
Александр Боровский
Ум, достоинство, сдержанность, интеллект, юмор, точность – это Саша. В его прозе есть свой стиль, есть позиция, есть дыхание жизни. Он так просто пишет о сложном, что тебе кажется, что ты тоже так думал, просто не смог об этом именно так сказать. Он пишет о вечном и таком узнаваемом. Он пишет о любви! Невероятный кайф читать его вслух!
Максимова Полина, российская актриса театра и кино, телеведущая
Дима Большой
Черт знает, какие затычки вставляет взрослая жизнь в наши органы чувств. Вроде живешь в том же мире, что и в детстве, но вокруг вырастает кокон, сквозь который, если и проникают запахи этого мира, его прикосновения, его вибрации, то только в виде эха детских ощущений – пахнет осенью, как тогда, земля липкая, как тогда, замерзшие листья хрустят под ногой – все только как тогда. И, похоже, по-другому уже не будет…
У нас не было ни дачи, ни поместья, ни какого-нибудь гулкого особняка – у нас была только квартира в девятиэтажном доме и двор, к нему прилагавшийся. Удивительно, как может простой московский двор стать вселенной для ребенка! И сейчас, глядя на его скромность и обычность, даже не хочется думать, что волшебство детства может вот так же превратить во вселенную и барак, и комнату в коммуналке, и собачью конуру. Куда только девается эта непритязательность… И зачем я теперь стал такой притязательный?
Двор имел свое символическое начало во времени: вскоре после того, как мы въехали в новый дом, на пустыре за один день построили детскую площадку. Целиком деревянная, она состояла из (записывайте): резной горки с громыхающим скатом, резной спортивной обоймы (турник, шведская стенка, качели), страшного резного деда с домиком кормушки в перпендикулярных лапах, не менее страшного резного чебурашки, резных качелей в виде бревна на опоре. И песочницы. Всю эту желтую лакированную роскошь с удивительной для меня, ребенка, серьезностью расставляли и вкапывали взрослые мужики. Мы, дети, еще не знакомые друг с другом, вначале глазели на стройку, а потом – о, радость! – нам велели помогать. И мы что-то держали, что-то тащили… Чувствовать себя полезным – одно из самых дефицитных ощущений для маленького человека.
Так началось мое дворовое детство.
Двор был полон одним только нам известных тайн. Вот неприметная квадратная дверца в стене дома – взрослые проходят мимо, не обращая на нее внимания, но мы знали, что за этой дверцей прячется кран без вентиля. При помощи семейного ключа от велосипеда кран оживал и превращался в источник холодной воды, такой нужный летом, в сезон брызгалок (не домой же бегать их наполнять).
Вот кирпичный забор, у которого в верхнем ряду не хватает одного кирпича – ухватившись в прыжке за эту выемку, можно было взобраться, перелезть и обнаружить на той стороне крашеную крышу железного сарая. А сдвинув ее – она сдвигалась – покинутое голубиное гнездо, в гнезде яйца, а в яйцах (или вы думали, что десятилетнего мальчика может что-то остановить?) довольно противный эмбрион несостоявшегося, как теперь уже понятно, голубиного птенца.
Мы знали, где дворник хранит краску-серебрянку, как попасть на крышу, как украсть шампунь для брызгалки из окна хозяйственного магазина. В новый дом обычно въезжают молодые семьи, так что компания у нас была большая, росшая вместе через начальный, а потом средний школьный возраст.
Дима Большой (в отличие от малопримечательного Димы Маленького) был на самом деле не очень большим, щуплым и белобрысым, но зато самым старшим среди нас. Годам к пятнадцати он стал реже снисходить до игр с мелюзгой, но когда это случалось, наша компания сразу казалась мне значительней. Дима умел рассказывать. В осенних сумерках его ломкий голос уносил нас в сказочную страну взрослых, где пили вино и занимались настоящим сексом с настоящими женщинами-десятиклассницами (подозреваю, что все это он просто выдумывал на радость шпане). Дима Большой знал все анекдоты и похабные стихи, умел смешно показывать пьяных и курил. Были у него в запасе и приличные истории – он мог в деталях описать, как лежал прикованный под маятником с лезвием, – картина, которая оставила в моей фантазии сильное впечатление, и в которой я годы спустя опознал рассказ Эдгара По. Он здорово рисовал, знал правила всех игр, просвещал нас, какие марки машин круче, за какую команду надо болеть, какую группу слушать. Аргумент «Дима Большой сказал, что „Бони М“ – фуфло, а „Чингисхан“ – клево» был решающим в дискуссии о музыке.
Ровно в восемь с восьмого же этажа неизменно слышался зычный крик «Алёёёёшаа, дооомооой!», как две волны с подъемами на «лёёё» и «дооо», и Алеша всегда одинаково вначале пугался, потом, стесняясь, опустив глаза, бормотал «Мне пора» и убегал в свой третий подъезд. Он всегда уходил первым. «Беги скорее, – напутствовал его Дима Большой, – у мамки сиська остынет!» И мы смеялись, сплевывали между зубов, но потом тоже расходились, а Дима – Дима всегда оставался последним.
Паша был младше меня на год, жил в соседнем подъезде, а его папа ездил за границу. Однажды Паша вышел во двор с заморской диковинкой – дротиками. Оперенное шило втыкалось в дерево при любом броске, мы кидали дротики по очереди, сидя, стоя, лежа, из-за спины, на дальность и на точность. Дима Большой, дымя сигареткой, взялся за снаряд, спружинился и зашвырнул его вверх. Дротик взмыл к низким облакам и застрял в стволе тополя на уровне пятого этажа. «Батя меня убьет» – прошелестел Паша. «Тогда твой модный велик чур мой» – цинично ответил Дима.
Дротик можно было разглядеть, но снять его не представлялось возможным, несмотря на то что мы иногда залезали и выше – у нас во дворе росли высокие тополя, – именно этот экземпляр не оброс в нужных местах удобными ветками. И еще долго потом, гуляя или по дороге в школу, я поглядывал на тополиного пленника, с каждым годом чуть дальше отдалявшегося от земли. Я представлял, как он покрывается снегом зимой и сосульками весной, как он ржавеет под дождем… Мне казалось, что когда-нибудь я сниму его. Наверное, он и сейчас торчит из ствола, но, увы, я давно утерял способность разглядеть его. Потом я узнал, что Дима в тот же вечер пришел к Паше домой и взял ответственность за утраченный дротик на себя.
Зимой, когда острый морозный вдох пронзал ноздри до самого мозга, мы играли на утоптанном снегу в хоккей с мячом. И боль от удара плетеным мячиком по коленной чашечке была невыносимой, но короткой. И снятая шапка дымилась паром.
Весной, когда пустой и сухой воздух вдруг за ночь превращается из газа в жидкость, просвеченную лучом, наполненную щебетом, звоном, скрипом отпираемых окон, запахом таяния, хлюпаньем и шмыганьем, – наступало время игры в банки. Когда земля подсыхала, начинались ножички и футбол. Круглый год мы лазили по деревьям, падали с них, ломали руки и ноги, но когда к нам присоединялся Дима Большой, все почему-то кончалось тем, что он рассказывал, а мы слушали.
Он собирался поступать в Иняз, и многие из нас тоже, на удивление родителей, стали рассуждать о прелестях жизни переводчиков. Но так же резко, как он иногда сообщал нам что еще вчера всеми уважаемый Панасоник – это фуфло, а вот Филипс – это клево, так же неожиданно Дима Большой решил поменять жизненную траекторию и пойти в армию, потому что «только армия сделает из тебя настоящего мужика». Уже на излете нашего детства он уходил в военкомат с нарезанными хлебом и колбасой, и по дороге сел к нам на лавочку, покурить напоследок.
А потом детство кончилось совсем, колеса завертелись, зачарованный двор стал отдаляться со страшной скоростью, начались переезды… Когда я снова попал во двор, его было не узнать. Все пустые места заняли машины, даже футбольное поле закатали под стоянку, резная площадка истлела, появились новые заборы, а дети исчезли. У подъезда сидел Дима Большой, совсем уже небольшой, меньше меня. Я ему кивнул, мне показалось, что он пьян. Потом мне рассказали, что он вернулся из армии и начал пить. Шли годы, и каждый раз, когда я оказывался во дворе, его ссутуленная тщедушная фигура всегда была в поле зрения – он куда-то шел, шатаясь, или сидел на наших старых местах.
Нашим детям уже больше, чем нам было тогда. И хотя двор уже не тот, я все еще могу определить месяц по запаху, когда там оказываюсь. Мы выросли и разбежались, калейдоскоп больше никогда не сложится в тот узор, только запахи, только память и Дима Большой. Который отказался взрослеть и трезветь и, как дротик в стволе тополя, остался торчать в месте своего предназначения, остался навсегда во дворе.
Александр Маленков
Синее полотенце