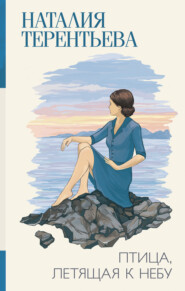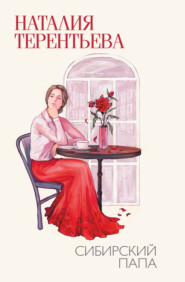По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Маримба!
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тепло, лето, звезды, Катька! Пойдем. Здесь же не страшно. Уровень преступности самый низкий в Европе.
– Точно, мам?
– Ну… мне так кажется, по крайней мере.
– А помнишь, как к нам в номер вор полез?
Конечно, я это помнила. В самый первый год. В самую первую ночь. В этой же самой комнате. Приехав в эту полудеревеньку-полугородок, тихий, практически сказочный, мирный, я так очаровалась и расслабилась, что оставила на ночь приоткрытое окно, отодвинула штору, у самого окна, распахивающегося, как дверь, до полу, положила рядом ноутбук, фотоаппарат… Под утро проснулась оттого, что в потолочном перекрытии скребутся мыши. Скребутся и скребутся. Охая и ворочаясь, я взглянула на окно. И глазам своим не поверила. Четыре утра – а уже работают садовники! И прямо у нас под окном. Кто-то тихонько возится. Потом этот кто-то просунул руку и стал ловко, привычно поворачивать ручку.
– Вы что-то хотели? – спросила я его.
Мужчина секунду смотрел на меня. Он видел, что в нашем небольшом номере никого нет, кроме меня и маленького ребенка. Но, подумав, продолжать не стал. Убежал. Я рассказала хозяйке и ее мужу об этом происшествии. Они смеялись. Я тогда еще не знала, что литовцы смеются по поводу и без. Удивилась их реакции. И с тех пор десять лет ставлю у приоткрытого окна тяжеленный стул. А на деревянный подлокотник стула – массивный подсвечник. Если полезут – будет приличный шум. И не оставляю у окна приманок в виде планшетов и видеокамер. Никто пока не лез. Но я помню нехороший взгляд того «садовника», свой испуг и всегда на ночь строю баррикаду.
– Что, пошли, мам? Я тебе тоже теплый палантин взяла.
– Пошли, а то твой Ромео уснет в ожидании следующего смайлика… Смешные вы! Созвонились бы, поговорили…
– Нет. Это другое. Писать лучше.
– А голос? Голос приятный у него, кстати? Ты не сказала.
– Приятный… – Катька улыбнулась. – Я спросила, поет ли он. У него такой… баритон, знаешь, мам.
– И…?
– Говорит, что только в ду?ше. Я сказала, что он “my favorite shower baritone”… Как-то по-русски коряво получается, да? Самый любимый душевой баритон…
– Оценил шутку?
– Не знаю… – Катька пожала плечами. – Смайлик послал. Большой. Значит, оценил.
* * *
Katja. Какую чудесную мелодию ты сегодня сыграл в своей сольной партии на концерте. Что это за произведение?
Leo. Не знаю… ?
Katja. Как же ты играл?
Leo. По нотам…
Katja. Смешно… ?
Leo. Мне понравилась твоя итальянская песня… я послушал в Youtube… ?
Katja. Спасибо
Leo. Ты красивая ?
Katja. ?
Leo. У тебя красивый голос, очень волнующий… ?
Katja. Спасибо…
Leo. Красивые волосы… красивые глаза…
Katja. Мне приятно…
Leo. С тобой интересно…:))
Katja. … ?
Leo. Ты вся сияешь… не знаю, как это по-английски… понимаешь?
Katja. Да
Leo. Но ты такая маленькая… такая еще маленькая… слишком маленькая для меня… Слишком молодая…
Какой раздражающий, унизительный рефрен. Кажется, мне опять очень мешает мое классическое воспитание. Кажется, русская литература, приучившая меня с детства думать категориями души, души и только души, опять ошиблась. Нет, все неправда в русской литературе, все вранье и обман. Никто так не живет. Возможно, должен жить, но не живет. Это цивилизация спаривающихся зверьков. Катька слишком молода для секса. Вот и все. Об этом пишет милый, застенчивый, легко краснеющий мальчик. Ему двадцать два года. Ему нужна близость. Иных отношений он не понимает. И он не Печорин и не Онегин. У тех хотя бы мозги были. «Уроки в тишине» юным девам они тоже давали, дай боже какие, если я правильно понимаю великих классиков. Но их герои были личности. А наш – minibrain. Минимозг. Наномозг. Он провинциал – какая разница, где находится его деревенька, за Уралом или на Балтике? Он смотрит мультсериал «Симпсоны» про неприличных рисованных уродцев и глупые американские шоу. Он не читал Набокова и Пушкина.
«Ты читал «Евгения Онегина»?» – спрашивает Катька.
«Нет, а кто это?» – спокойно интересуется наш минимозг.
«Это Пушкин», – объясняет Катька.
«Мы советскую литературу не проходим…» – слышит она в ответ от своего принца.
Еще он не знает, как называется пьеса, которую он вчера играл на концерте. Играл и играл, какая разница. Ему дали ноты, он сыграл. Но он нравится Катьке. Очень нравится. Чем? А чем мне когда-то понравился Данилевский, у которого в каждом углу сидело по заплаканной любовнице, а дома – милая трогательная жена в очечках и с грудным ребенком? Я не знала ни про любовниц, ни про жену. Я подошла к Данилевскому, случайно, по делу. На меня как будто подул горячий ветер. Меня обожгло. На пятнадцать лет обожгло. Я ослепла, оглохла, попала в другой мир. Где есть он, его глаза, его улыбка, его молчаливый вопрос, ответ на который понятен. «Да, да! Конечно, да…»
Так и Катька. При чем тут Симпсоны и провинциальные замашки ее литовского принца? При чем тут легкое косоглазие и внятная неспортивность? Она попала в его поле, оно совпало с ее невидимым, таинственным полем. Они сопряглись, эти загадочные поля, и раздалась мелодия. Та, которую не спутать ни с чем. Мелодия любви. Больше не надо ничего говорить.
* * *
Katja. Что же мне делать?
Leo. Не знаю.
Katja. Я же не могу стать взрослее, чем я есть…
Leo. Не можешь…
Katja. А ты можешь подождать, пока я вырасту?
Leo. … ?
Katja. Нет?