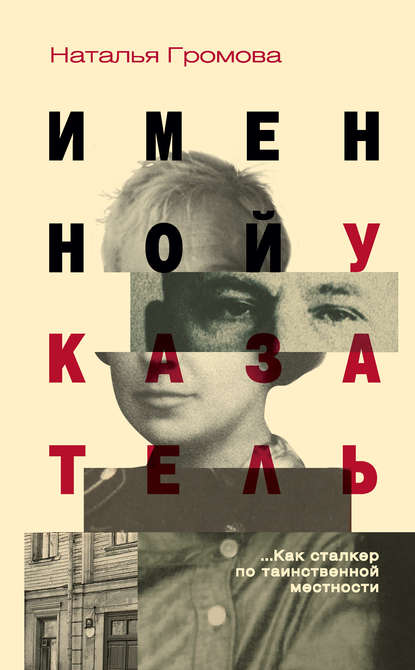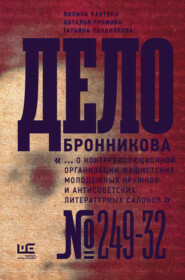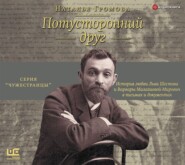По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Именной указатель
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Именной указатель
Наталья Александровна Громова
Проза Натальи Громовой
Наталья Громова – прозаик, историк литературы 1920-х – 1950-х гг. Автор документальных книг “Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы”, “Распад. Судьба советского критика в 40-е – 50-е”, “Ключ. Последняя Москва”, “Ольга Берггольц: Смерти не было и нет” и др. В книге “Именной указатель” собраны и захватывающие архивные расследования, и личные воспоминания, и записи разговоров. Наталья Громова выясняет, кто же такая чекистка в очерке Марины Цветаевой “Дом у старого Пимена” и где находился дом Добровых, в котором до ареста жил Даниил Андреев; рассказывает о драматурге Александре Володине, о таинственном итальянском журналисте Малапарте и его знакомстве с Михаилом Булгаковым; вспоминает, как в “Советской энциклопедии” создавался уникальный словарь русских писателей XIX – начала XX века, “не разрешенных циркулярно, но и не запрещенных вполне”.
Наталья Громова
Именной указатель
Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить…
Б. Пастернак “Охранная грамота”
© Громова Н. А.
© Черногаев Д. Д.
© ООО “Издательство АСТ”
* * *
Чтение указателей – особый жанр. Бывает, что книга берется в руки только ради одного имени. Ссылка может обнаружить связь между персонажами, которые, казалось бы, не должны были встретиться в одной книге, но внезапно пересеклись. Именной указатель похож на карту звездного неба, где можно, если постараться, увидеть скрещения судеб.
Порой просматривание именных указателей похоже на прохождение сталкера по таинственной местности. Ты сам сначала не осознаешь, что ищешь. Бывает так: когда-то имя сфотографировалось в памяти и прежде ничего не значило, но вот ты встречаешь его в указателе и как по нити Ариадны выходишь к новому сюжету или находишь ответ на давно неразгаданный ребус. Поэтому нет ничего более упоительного, чем, как бусины, перебирать строчки цифр и находить на страницах текста пересечения во времени и в пространстве одного героя с другим. А если повезет, то за этими цифрами и буквами окажутся еще живые люди, которых можно расспросить, увидеть их письма, услышать воспоминания и рассказы.
Самые чудесные связи и пересечения открылись мне во внезапно обнаруженных дневниках Ольги Бессарабовой и Варвары Малахиевой-Мирович. Я перелистывала страницу за страницей и не верила своим глазам; казалось, все известные люди начала ХХ века решили собраться на одном пятачке истории. Марина Цветаева и Татьяна Скрябина, Лев Шестов и Алла Тарасова, Даниил Андреев и Владимир Фаворский, Игорь Ильинский и Сонечка Голлидэй и многие другие. Именно тогда я поняла, как тонок был интеллектуальный слой России. Как легко его можно было свести на нет, стереть из памяти. Сколько тайн и смыслов скрыто в упоминании, что такой-то и такой-то оказался в том или ином месте или встретился с тем-то. В начале века эти пересечения и сближения играли огромную роль в возникновении чертежа судьбы.
Путешествие, в которое я отправилась несколько десятилетий назад, отвечало вполне понятной задаче: собирать свидетельства уходящего времени, разыскивать архивы, писать документальные книги. Однако почти каждый человек, встреченный на моем пути (неважно, был он живым или архивно-книжным), не только становился источником сведений, но и незаметно входил в мою жизнь. Мне повезло встретить людей, которые пришли ко мне из другого времени. Встречи с ними могли быть короткими или длинными, случайными или намеренными, но главное, они оказывались для меня мостом из настоящего в прошлое. Я часто понимала, что получаю свидетельства не только от моих непосредственных собеседников, но через них – от того, кто не дожил, с кем не удалось встретиться…
В этой книге я рассказываю и о тех, с кем дружила и с кем виделась лишь однажды, кого встретила в архивах или в чьих-то устных историях. За пределами этих страниц осталось еще столько же героев и сюжетов, ждущих своего продолжения. И я надеюсь и дальше рассказывать о людях, которые встретились на моем пути.
Люди
Энциклопедическое
Юность моя проходила в издательстве “Советская энциклопедия”, где я наблюдала удивительные сцены.
В годы перестройки, когда еще было плохо понятно, что можно, а что нельзя, один редактор несся по коридору с гранками статей “Бухарин”, “Рыков” и “Троцкий”, а за ним бежал его начальник с криком “Не сметь!”. Редактор пытался обходным путем показать статейки высшему начальству. Он задыхался и почти что плакал. Строчка, заметка в огромном справочнике пробивала бреши умолчаний, открывала двери истории. Но за каждым таким шагом могли быть сердечные приступы, исступленная борьба, разрыв отношений.
“Энциклопедия” была огромным материком, где под одной крышей существовали все направления человеческих знаний и умений. Но она была еще и советским материком; все колебания почвы советской жизни, старые и новые веяния отпечатывались на страницах словарей как складки на горной гряде.
Под обложкой нашего словаря должны были собраться “Русские писатели” с 1800-го по 1917 год. В редакции литературы “Советской энциклопедии”, где решили осуществить эту отчаянную попытку, я стала работать в начале 1980-х младшим редактором.
Почти сразу я поняла, что попала в странный, немного призрачный мир. За окнами унылый застой. Каждую неделю распределялись заказы (курица, гречка, пачка индийского чая, иногда батон сырокопченой колбасы). Газеты выписывали только затем, чтобы вычитать что-то между строк. С тревогой обсуждали польскую “Солидарность”, говорили о тех, кто уезжает или кого высылают.
Здесь же шла отдельная жизнь. Редакторы вели себя так, словно владели неким тайным знанием. Во время чая, в перерывах между непрерывной работой, которая не прекращалась ни днем, ни ночью, мне объясняли, что история России – это и есть история литературы и литераторов. Здесь писали все: горничные, пожарные, ученые, путешественники, цари, сторожа, женщины без всяких занятий, князья, артисты, машинисты, повара, актеры. Кто тайно, кто явно. В России не было ни политики, ни общественной жизни, ни партий, ни профсоюзов… только литература и журналистика.
Просто при ближайшем рассмотрении оказывалось, что здесь больше ничего и не осталось. И вот словарь и стал попыткой сшивания культурной ткани, разорванной на тысячи лоскутов.
– Мы страна Слова, – провозглашали редакторы. – Если мы не опишем это явление в биографиях и судьбах, этого не сделает никто и никогда.
Произносили речи обычно за чаем, за рюмкой, на улице, когда шли до метро. Словно делились тайным знанием. И я понимала, что попала в Церковь, куда тебя могли принять, а могли не пустить даже на порог, несмотря на то, что ты тут служишь.
В двух длинных комнатах с высокими окнами, выходящими на Покровский бульвар, стояло около десяти столов, за которыми сидело обычно по два редактора; остальные, как правило, работали дома или в библиотеке. В высокие потолки упирались полки с папками, на корешках которых были написаны белой краской фамилии литераторов.
В полном составе редакция собиралась раз в неделю на летучке. Все вместе редакторы производили на меня, особенно вначале, неизгладимое впечатление. С виду очень приличные интеллигентные люди, теперь они метались и кричали, обвиняя друг друга в смертных грехах. Я никак не могла ухватить суть их конфликта. Они выкрикивали фамилии своих героев с такой страстью, словно речь шла об их близких родственниках. Их возмущало, что на того или иного литератора было отпущено мало знаков. Количество знаков говорило о том, сколько текста уходит на статью. Одни писатели раздувались, разрастались и отбирали жизненное пространство у других. Особую ненависть снискали писатели знаменитые – типа Гончарова, Достоевского или Блока.
Считалось, что про них и так уже сто раз было всё написано и давно всё известно, а теперь они своими объемами отнимали знаки у писателей неизвестных, маленьких или забытых.
Члены редакции “Литературы и языка” “Советской энциклопедии”: Николай Пантелеймонович Розин, Сергей Михайлович Александров, Татьяна Бударина, Константин Михайлович Черный, Юрий Григорьевич Буртин
Некоторых из таких потерявшихся писателей редакторы ласково называли “кандидаты”. О них обычно было известно ничтожно мало. Рождение. Смерть. Несколько публикаций. Всё. Они были “табула раса”. У каждого редактора был свой отряд авторов-поисковиков, которых они по-отечески пестовали, наставляли, в глубине души понимая, что только они знают на самом деле, как сделать настоящую статью о любом писателе. Это была тайна верескового меда, которую они не доверяли никому.
Вся русская литература в словаре была поделена на периоды. Пушкинским периодом заведовала Людмила Щемелева и Николай Розин, народниками и писателями середины XIX века – Юрий Буртин и Людмила Боровлева, концом XIX века – Сергей Александров, а началом XX века – Константин Черный и Людмила Клименюк. Первое, что мне бросилось в глаза, – редакторы как-то странно перевоплощались в людей того или иного периода литературы. Они разделяли взгляды своих персонажей, говорили теми же словами и словечками, а главное, бились с другими периодами за главенство своего.
Николай Пантелеймонович Розин был фигурой во всех смыслах необычной. Худой, высокого роста, немного сутулый, с бородкой клинышком, голубыми глазами, которые смотрели или глубоко в себя, или вдруг с невероятным озорством – на всех окружающих. Он любил выбрасывать руку вперед и кричать по-ленински о победе революции, о которой так долго говорили большевики. Большевиков он ненавидел яростно и люто. Он снискал славу человека, который свои небольшие статьи о писателях-стукачах в Краткой литературной энциклопедии (КЛЭ) подписывал – Гпухов или Гпушкин. Однажды он рассказал, как во время войны мать везла его на санках из одного села в Курской области в другое; бежали от немцев. Вернувшись в свое село, он увидел, как партизаны расправились с его односельчанами. Говорил, что его ужаснула та жестокость, с которой он столкнулся. Людей вешали прямо на березах или прибивали к ним гвоздями.
Он обожал обманывать начальство “Энциклопедии”, разрабатывал целые операции, чтобы протащить тех или иных писателей, старался ввести в словник как можно больше религиозных литераторов, горячо любил эзопов язык.
Он был неофит в церковной жизни, искал смысл в обрядах, мог прийти на работу с рассказом о том, что стоял в церкви на службе, а в голову ему лезли матерные слова, о чем он тяжко сокрушался. Был яростным борцом за мораль и нравственность. Вбегал утром на работу с криком, что не может ездить летом в транспорте, потому что у всех женщин – голые спины!
Над ним смеялись, а он смеялся над собой вместе со всеми.
Людмила Макаровна Щемелева, работавшая с ним в паре, часто была недовольна им и ругала его, хотя была вдвое моложе. Он уважительно слушал ее, но иногда хватал себя за бороду и огромными шагами выбегал из комнаты. Прийти мог через несколько часов, тихий и умиротворенный. Люся, как мы звали Людмилу Макаровну, вообще не признавала никаких авторитетов и разговаривала со всеми на особом языке. Он состоял из философских сентенций, простых человеческих слов и детских выкриков. В построении ею фразы почти никогда не прослеживалась логика, она запросто опускала целые речевые периоды, ее мысль летела, скакала, ей некогда было объяснять собеседнику подробности. С ней было очень интересно, но ее темперамент сносил всё на своем пути. Она была полна множества познаний, имела железную волю и неумолимый характер. Ссорилась с Розиным раз в месяц, не разговаривала с ним, общаясь исключительно письмами. Впрочем, она почти со всеми общалась письмами, и, чтобы их разобрать, требовались огромные усилия. Это были крючки, стрелы, буквы, которые тоже летели через периоды. Для меня же это была великолепная школа. После того как я перепечатала сотни страниц с ее правкой, мне уже был не страшен никакой почерк на свете.
Ее почитали все, хотя она могла обругать и директора издательства, и Ю. М. Лотмана. Я видела своими глазами, как она трясла как грушу худого и тонкого Сергея Сергеевича Аверинцева, требуя от него статью, а он только жалобно оправдывался. Она могла остановить человека на улице и объяснять ему что-нибудь про величие русской литературы или рассказывать об очередном писателе. Она не делила людей на простых и сложных. Персонажей из словаря ощущала живыми и говорила с ними и о них, будто они что-то выкинули, учудили, устроили только вчера.
С Юрием Михайловичем Лотманом Люся делала статью о Пушкине[1 - Как указывают современники, статья Юрия Михайловича, с которой он приехал работать в редакцию, была о Карамзине. Но так как разговор все время возвращался к будущей статье Лотмана о Пушкине, оставляю все, как помню. (Здесь и далее примеч. авт.)], и статья эта разрасталась до огромных размеров. Шла напряженная переписка с Тарту. И вот в один прекрасный день дверь открылась и в лучах осеннего солнца появился человек небольшого роста в больших седых усах и с тросточкой. Я сидела в своем углу. Он вошел и раскланялся.
– А! – закричала Люся. – Юрий Михайлович! Вот вы и попались.
– Я сам пришел! – немного обиженно ответил Лотман.
Но Л. М. не унималась, она ворчала, что его Пушкин превысил все возможные объемы и теперь уж она устроит Лотману!
Я тем временем неотрывно смотрела на него. Он был абсолютно не похож ни на кого. Маленький, улыбчивый, каждую остроумную реплику, которую он подавал в ответ на крики Люси, он сопровождал взглядом артиста по сторонам: “Ну как?” Мое лицо, видимо, выражало идиотскую радость, поэтому Люся решила выстрелить из всех орудий.
Дело в том, что я пописывала небольшие статьи для энциклопедии “Ленинград” про разных писателей. Все видные авторы от этой неблагодарной работы отказались. Я втянула туда недавно освоенное мною понятие “петербургский текст”. Люся меня хвалила и усердно, по-редакторски, переписывала мои статьи. И вот я и еще один юноша вместе написали статью о Пушкине, которую Л. М. недавно “довела до ума”.
Теперь глянув на меня, она вдруг пронзительно закричала:
– А вот Наташе, Юрий Михайлович, удалось всего на трех страницах всё сказать про Пушкина… и вполне…
Лотман вскинул на меня глаза. И, не улыбаясь, как-то картинно встал, поклонился и развел руками:
– Могу только завидовать и восхищаться…
Я сделалась даже не пунцовой, а, наверное, серо-буро-малиновой. Глаз я больше не подымала и в душе кляла Люсю на чем свет стоит. Но они уже забыли про меня и перешли к своей огромной статье. А я слушала их восхитительные препирательства. Лотман был абсолютно нездешний. От того, как он говорил, шутил и смеялся, до того, как видел другого человека. Он был настолько живой и настоящий, без капли высокомерия, чванливости, что потом, спустя годы, когда разочаровывалась в том или ином известном человеке, то вспоминала Лотмана и понимала, что мне удалось увидеть такое высокое измерение личности, что мне нечего расстраиваться по подобным поводам.
Наталья Александровна Громова
Проза Натальи Громовой
Наталья Громова – прозаик, историк литературы 1920-х – 1950-х гг. Автор документальных книг “Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы”, “Распад. Судьба советского критика в 40-е – 50-е”, “Ключ. Последняя Москва”, “Ольга Берггольц: Смерти не было и нет” и др. В книге “Именной указатель” собраны и захватывающие архивные расследования, и личные воспоминания, и записи разговоров. Наталья Громова выясняет, кто же такая чекистка в очерке Марины Цветаевой “Дом у старого Пимена” и где находился дом Добровых, в котором до ареста жил Даниил Андреев; рассказывает о драматурге Александре Володине, о таинственном итальянском журналисте Малапарте и его знакомстве с Михаилом Булгаковым; вспоминает, как в “Советской энциклопедии” создавался уникальный словарь русских писателей XIX – начала XX века, “не разрешенных циркулярно, но и не запрещенных вполне”.
Наталья Громова
Именной указатель
Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить…
Б. Пастернак “Охранная грамота”
© Громова Н. А.
© Черногаев Д. Д.
© ООО “Издательство АСТ”
* * *
Чтение указателей – особый жанр. Бывает, что книга берется в руки только ради одного имени. Ссылка может обнаружить связь между персонажами, которые, казалось бы, не должны были встретиться в одной книге, но внезапно пересеклись. Именной указатель похож на карту звездного неба, где можно, если постараться, увидеть скрещения судеб.
Порой просматривание именных указателей похоже на прохождение сталкера по таинственной местности. Ты сам сначала не осознаешь, что ищешь. Бывает так: когда-то имя сфотографировалось в памяти и прежде ничего не значило, но вот ты встречаешь его в указателе и как по нити Ариадны выходишь к новому сюжету или находишь ответ на давно неразгаданный ребус. Поэтому нет ничего более упоительного, чем, как бусины, перебирать строчки цифр и находить на страницах текста пересечения во времени и в пространстве одного героя с другим. А если повезет, то за этими цифрами и буквами окажутся еще живые люди, которых можно расспросить, увидеть их письма, услышать воспоминания и рассказы.
Самые чудесные связи и пересечения открылись мне во внезапно обнаруженных дневниках Ольги Бессарабовой и Варвары Малахиевой-Мирович. Я перелистывала страницу за страницей и не верила своим глазам; казалось, все известные люди начала ХХ века решили собраться на одном пятачке истории. Марина Цветаева и Татьяна Скрябина, Лев Шестов и Алла Тарасова, Даниил Андреев и Владимир Фаворский, Игорь Ильинский и Сонечка Голлидэй и многие другие. Именно тогда я поняла, как тонок был интеллектуальный слой России. Как легко его можно было свести на нет, стереть из памяти. Сколько тайн и смыслов скрыто в упоминании, что такой-то и такой-то оказался в том или ином месте или встретился с тем-то. В начале века эти пересечения и сближения играли огромную роль в возникновении чертежа судьбы.
Путешествие, в которое я отправилась несколько десятилетий назад, отвечало вполне понятной задаче: собирать свидетельства уходящего времени, разыскивать архивы, писать документальные книги. Однако почти каждый человек, встреченный на моем пути (неважно, был он живым или архивно-книжным), не только становился источником сведений, но и незаметно входил в мою жизнь. Мне повезло встретить людей, которые пришли ко мне из другого времени. Встречи с ними могли быть короткими или длинными, случайными или намеренными, но главное, они оказывались для меня мостом из настоящего в прошлое. Я часто понимала, что получаю свидетельства не только от моих непосредственных собеседников, но через них – от того, кто не дожил, с кем не удалось встретиться…
В этой книге я рассказываю и о тех, с кем дружила и с кем виделась лишь однажды, кого встретила в архивах или в чьих-то устных историях. За пределами этих страниц осталось еще столько же героев и сюжетов, ждущих своего продолжения. И я надеюсь и дальше рассказывать о людях, которые встретились на моем пути.
Люди
Энциклопедическое
Юность моя проходила в издательстве “Советская энциклопедия”, где я наблюдала удивительные сцены.
В годы перестройки, когда еще было плохо понятно, что можно, а что нельзя, один редактор несся по коридору с гранками статей “Бухарин”, “Рыков” и “Троцкий”, а за ним бежал его начальник с криком “Не сметь!”. Редактор пытался обходным путем показать статейки высшему начальству. Он задыхался и почти что плакал. Строчка, заметка в огромном справочнике пробивала бреши умолчаний, открывала двери истории. Но за каждым таким шагом могли быть сердечные приступы, исступленная борьба, разрыв отношений.
“Энциклопедия” была огромным материком, где под одной крышей существовали все направления человеческих знаний и умений. Но она была еще и советским материком; все колебания почвы советской жизни, старые и новые веяния отпечатывались на страницах словарей как складки на горной гряде.
Под обложкой нашего словаря должны были собраться “Русские писатели” с 1800-го по 1917 год. В редакции литературы “Советской энциклопедии”, где решили осуществить эту отчаянную попытку, я стала работать в начале 1980-х младшим редактором.
Почти сразу я поняла, что попала в странный, немного призрачный мир. За окнами унылый застой. Каждую неделю распределялись заказы (курица, гречка, пачка индийского чая, иногда батон сырокопченой колбасы). Газеты выписывали только затем, чтобы вычитать что-то между строк. С тревогой обсуждали польскую “Солидарность”, говорили о тех, кто уезжает или кого высылают.
Здесь же шла отдельная жизнь. Редакторы вели себя так, словно владели неким тайным знанием. Во время чая, в перерывах между непрерывной работой, которая не прекращалась ни днем, ни ночью, мне объясняли, что история России – это и есть история литературы и литераторов. Здесь писали все: горничные, пожарные, ученые, путешественники, цари, сторожа, женщины без всяких занятий, князья, артисты, машинисты, повара, актеры. Кто тайно, кто явно. В России не было ни политики, ни общественной жизни, ни партий, ни профсоюзов… только литература и журналистика.
Просто при ближайшем рассмотрении оказывалось, что здесь больше ничего и не осталось. И вот словарь и стал попыткой сшивания культурной ткани, разорванной на тысячи лоскутов.
– Мы страна Слова, – провозглашали редакторы. – Если мы не опишем это явление в биографиях и судьбах, этого не сделает никто и никогда.
Произносили речи обычно за чаем, за рюмкой, на улице, когда шли до метро. Словно делились тайным знанием. И я понимала, что попала в Церковь, куда тебя могли принять, а могли не пустить даже на порог, несмотря на то, что ты тут служишь.
В двух длинных комнатах с высокими окнами, выходящими на Покровский бульвар, стояло около десяти столов, за которыми сидело обычно по два редактора; остальные, как правило, работали дома или в библиотеке. В высокие потолки упирались полки с папками, на корешках которых были написаны белой краской фамилии литераторов.
В полном составе редакция собиралась раз в неделю на летучке. Все вместе редакторы производили на меня, особенно вначале, неизгладимое впечатление. С виду очень приличные интеллигентные люди, теперь они метались и кричали, обвиняя друг друга в смертных грехах. Я никак не могла ухватить суть их конфликта. Они выкрикивали фамилии своих героев с такой страстью, словно речь шла об их близких родственниках. Их возмущало, что на того или иного литератора было отпущено мало знаков. Количество знаков говорило о том, сколько текста уходит на статью. Одни писатели раздувались, разрастались и отбирали жизненное пространство у других. Особую ненависть снискали писатели знаменитые – типа Гончарова, Достоевского или Блока.
Считалось, что про них и так уже сто раз было всё написано и давно всё известно, а теперь они своими объемами отнимали знаки у писателей неизвестных, маленьких или забытых.
Члены редакции “Литературы и языка” “Советской энциклопедии”: Николай Пантелеймонович Розин, Сергей Михайлович Александров, Татьяна Бударина, Константин Михайлович Черный, Юрий Григорьевич Буртин
Некоторых из таких потерявшихся писателей редакторы ласково называли “кандидаты”. О них обычно было известно ничтожно мало. Рождение. Смерть. Несколько публикаций. Всё. Они были “табула раса”. У каждого редактора был свой отряд авторов-поисковиков, которых они по-отечески пестовали, наставляли, в глубине души понимая, что только они знают на самом деле, как сделать настоящую статью о любом писателе. Это была тайна верескового меда, которую они не доверяли никому.
Вся русская литература в словаре была поделена на периоды. Пушкинским периодом заведовала Людмила Щемелева и Николай Розин, народниками и писателями середины XIX века – Юрий Буртин и Людмила Боровлева, концом XIX века – Сергей Александров, а началом XX века – Константин Черный и Людмила Клименюк. Первое, что мне бросилось в глаза, – редакторы как-то странно перевоплощались в людей того или иного периода литературы. Они разделяли взгляды своих персонажей, говорили теми же словами и словечками, а главное, бились с другими периодами за главенство своего.
Николай Пантелеймонович Розин был фигурой во всех смыслах необычной. Худой, высокого роста, немного сутулый, с бородкой клинышком, голубыми глазами, которые смотрели или глубоко в себя, или вдруг с невероятным озорством – на всех окружающих. Он любил выбрасывать руку вперед и кричать по-ленински о победе революции, о которой так долго говорили большевики. Большевиков он ненавидел яростно и люто. Он снискал славу человека, который свои небольшие статьи о писателях-стукачах в Краткой литературной энциклопедии (КЛЭ) подписывал – Гпухов или Гпушкин. Однажды он рассказал, как во время войны мать везла его на санках из одного села в Курской области в другое; бежали от немцев. Вернувшись в свое село, он увидел, как партизаны расправились с его односельчанами. Говорил, что его ужаснула та жестокость, с которой он столкнулся. Людей вешали прямо на березах или прибивали к ним гвоздями.
Он обожал обманывать начальство “Энциклопедии”, разрабатывал целые операции, чтобы протащить тех или иных писателей, старался ввести в словник как можно больше религиозных литераторов, горячо любил эзопов язык.
Он был неофит в церковной жизни, искал смысл в обрядах, мог прийти на работу с рассказом о том, что стоял в церкви на службе, а в голову ему лезли матерные слова, о чем он тяжко сокрушался. Был яростным борцом за мораль и нравственность. Вбегал утром на работу с криком, что не может ездить летом в транспорте, потому что у всех женщин – голые спины!
Над ним смеялись, а он смеялся над собой вместе со всеми.
Людмила Макаровна Щемелева, работавшая с ним в паре, часто была недовольна им и ругала его, хотя была вдвое моложе. Он уважительно слушал ее, но иногда хватал себя за бороду и огромными шагами выбегал из комнаты. Прийти мог через несколько часов, тихий и умиротворенный. Люся, как мы звали Людмилу Макаровну, вообще не признавала никаких авторитетов и разговаривала со всеми на особом языке. Он состоял из философских сентенций, простых человеческих слов и детских выкриков. В построении ею фразы почти никогда не прослеживалась логика, она запросто опускала целые речевые периоды, ее мысль летела, скакала, ей некогда было объяснять собеседнику подробности. С ней было очень интересно, но ее темперамент сносил всё на своем пути. Она была полна множества познаний, имела железную волю и неумолимый характер. Ссорилась с Розиным раз в месяц, не разговаривала с ним, общаясь исключительно письмами. Впрочем, она почти со всеми общалась письмами, и, чтобы их разобрать, требовались огромные усилия. Это были крючки, стрелы, буквы, которые тоже летели через периоды. Для меня же это была великолепная школа. После того как я перепечатала сотни страниц с ее правкой, мне уже был не страшен никакой почерк на свете.
Ее почитали все, хотя она могла обругать и директора издательства, и Ю. М. Лотмана. Я видела своими глазами, как она трясла как грушу худого и тонкого Сергея Сергеевича Аверинцева, требуя от него статью, а он только жалобно оправдывался. Она могла остановить человека на улице и объяснять ему что-нибудь про величие русской литературы или рассказывать об очередном писателе. Она не делила людей на простых и сложных. Персонажей из словаря ощущала живыми и говорила с ними и о них, будто они что-то выкинули, учудили, устроили только вчера.
С Юрием Михайловичем Лотманом Люся делала статью о Пушкине[1 - Как указывают современники, статья Юрия Михайловича, с которой он приехал работать в редакцию, была о Карамзине. Но так как разговор все время возвращался к будущей статье Лотмана о Пушкине, оставляю все, как помню. (Здесь и далее примеч. авт.)], и статья эта разрасталась до огромных размеров. Шла напряженная переписка с Тарту. И вот в один прекрасный день дверь открылась и в лучах осеннего солнца появился человек небольшого роста в больших седых усах и с тросточкой. Я сидела в своем углу. Он вошел и раскланялся.
– А! – закричала Люся. – Юрий Михайлович! Вот вы и попались.
– Я сам пришел! – немного обиженно ответил Лотман.
Но Л. М. не унималась, она ворчала, что его Пушкин превысил все возможные объемы и теперь уж она устроит Лотману!
Я тем временем неотрывно смотрела на него. Он был абсолютно не похож ни на кого. Маленький, улыбчивый, каждую остроумную реплику, которую он подавал в ответ на крики Люси, он сопровождал взглядом артиста по сторонам: “Ну как?” Мое лицо, видимо, выражало идиотскую радость, поэтому Люся решила выстрелить из всех орудий.
Дело в том, что я пописывала небольшие статьи для энциклопедии “Ленинград” про разных писателей. Все видные авторы от этой неблагодарной работы отказались. Я втянула туда недавно освоенное мною понятие “петербургский текст”. Люся меня хвалила и усердно, по-редакторски, переписывала мои статьи. И вот я и еще один юноша вместе написали статью о Пушкине, которую Л. М. недавно “довела до ума”.
Теперь глянув на меня, она вдруг пронзительно закричала:
– А вот Наташе, Юрий Михайлович, удалось всего на трех страницах всё сказать про Пушкина… и вполне…
Лотман вскинул на меня глаза. И, не улыбаясь, как-то картинно встал, поклонился и развел руками:
– Могу только завидовать и восхищаться…
Я сделалась даже не пунцовой, а, наверное, серо-буро-малиновой. Глаз я больше не подымала и в душе кляла Люсю на чем свет стоит. Но они уже забыли про меня и перешли к своей огромной статье. А я слушала их восхитительные препирательства. Лотман был абсолютно нездешний. От того, как он говорил, шутил и смеялся, до того, как видел другого человека. Он был настолько живой и настоящий, без капли высокомерия, чванливости, что потом, спустя годы, когда разочаровывалась в том или ином известном человеке, то вспоминала Лотмана и понимала, что мне удалось увидеть такое высокое измерение личности, что мне нечего расстраиваться по подобным поводам.