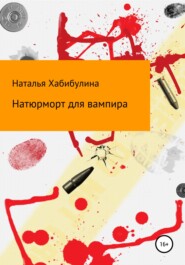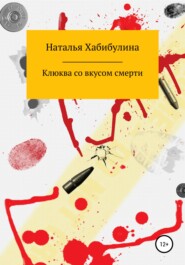По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайна старых картин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В кухне толпилась своя и нанятая со слободки прислуга. Самой Аксинье с дочерьми было не справиться с таким количеством приготавливаемых блюд.
А пока семья проводила вечер в подготовке и ожидании веселой недели.
Слушая сказки, каждый думал о своем: дети, с замиранием, представляли, какой будет ёлка, будут ли подарки ожидаемыми, взрослая молодёжь мечтала о маскараде, хотя Дарья в этот вечер была не спокойна, щёки её постоянно вспыхивали ярким румянцем, то вдруг лицо заливала бледность, что не ускользнуло от внимательного родительского взгляда. И наряду с хозяйскими хлопотами Домну Кузьминишну одолевали мысли о взрослой дочери.
Изменения в настроении девушки она заметила задолго до этого дня, но списывала всё на взросление, и считала, что толчком этому послужили слова Гордея Устиновича о скором сватовстве: так как Дарьюшка уже вошла в невестин возраст, отец подобрал ей знатного жениха – сына своего старого товарища Сысоева Глеба Донатовича, торговца пушниной. Домна Кузьминишна не особо одобряла выбор мужа, так как Петр не отвечал представлениям женщины о хорошем муже, хотя внешностью обладал приятной, но поведение его отличалось вольнодумством и легкомыслием. От своих товарок краем уха слышала также, что Петр втайне ото всех посещает игральный дом. А уж это никак не укладывалось в понятие о крепости духа мужчины, призванного быть главой семьи и сохранять, и приумножать достаток её. Расточительство было едва не главным грехом в обществе крепких купцов, какими являлись на тот момент Лыткин и Сысоев. Даже меценатствовали с осторожностью, дабы не растратить понапрасну накопленные годами ценности.
Нравился ли выбор отца дочери Дарьюшке, Домна Кузьминишна не знала точно, могла лишь предполагать отрицательное мнение её, но повлиять на предстоящее сватовство не могла, слишком уж весомым было слово мужа, и перечить ему никто в семье Лыткиных не осмелился бы никогда.
Так, в раздумьях о своих детях, проводила этот вечер купчиха Лыткина.
В гостиную кухарка Аксинья внесла огромный самовар: из конторы вернулся хозяин, семья собиралась пить чай.
Домна Кузьминишна повернула голову к дивану и жестом поманила сидящую на диване Аглаю. Девочка лишь кивнула: разговаривать она не могла, была глухонемой от рождения. Но отсутствие одного дара заменилось с лихвой другим. Будучи ещё совсем крохой, она однажды вошла в кабинет к отцу, взяла лист бумаги с рабочего стола, карандаш и нарисовала его портрет. Рисунок хоть и дышал детским восприятием, но настолько точно передавал саму суть, что Лыткин и всё его семейство поняли сразу: Господь одарил девочку необыкновенным талантом художника. С той поры отец постоянно покупал ей холсты, палитры, кисти, краски. Написанные готовые картины вставлял в дорогие багеты, и они наравне с полотнами великих художников висели на обитых шелковыми обоями стенах дома.
Однажды некий заезжий художник, расположившийся со своим мольбертом на берегу реки, был весьма удивлен и поражен, когда семилетняя девочка, подойдя к его картине, вдруг взяла у него кисть и двумя мазками исправила то, что он пытался сделать вот уже два дня. Няня, гуляющая с детьми Лыткиных, объяснила молодому человеку, в чем дело. Тот упросил женщину проводить его к родителям девочки. Там он стал горячо убеждать их отдать Аглаю в художественную школу, но отец был неумолим: девочка очень мала, нуждается в уходе и заботе своей семьи. А к этому разговору обещал вернуться через несколько лет. Правда, раз в год художник появлялся в их доме и с удовольствием разглядывал законченные новые работы Аглаи. Молча, указывал ей на её ошибки, а она прекрасно его понимала и в ответ лишь кивала головой. Но с каждым разом работы её становились всё профессиональнее, и молодой человек говорил, что девочку ждёт большое будущее.
Но пока она оставалась для своих родителей просто ребенком, которого все очень любили, жалели и берегли. Она платила им тем же, и очень внимательно следила за каждым из них, порой совершая своей молчаливой заботой чудеса.
Так, в одну из ночей холодной осени девочка внезапно проснулась и побежала в спальню малышей. Там она разбудила няньку и, мыча, показала на кроватку самого младшего сынишки Лавруши. Мальчик непонятно почему задыхался. Нянька схватила ребенка на руки, а Аглая уже привела в детскую мать. Мальчик был спасен. С той поры семья считала девочку не просто чудом, но и своим ангелом-хранителем.
Сейчас же мысли о судьбе Дарьи занимали не только материну голову, ею была обеспокоена и Аглая. Весь вечер она с неутомимым вниманием смотрела на старшую сестру, которую боготворила, и любовь свою к ней выражала в необыкновенных портретах, на которых изображала Дарью прекрасной ланью, окруженной яркими цветами и чудными птицами. За это сестра благодарила девочку нежными объятиями и поцелуями. А обеспокоиться о судьбе сестры Аглаю заставил один очень странный случай, которому она, по своему возрасту, никак не могла дать никакого объяснения, но понимала, что это следует хранить в тайне. Только девочке очень хотелось узнать, в чем она заключалась, и, по мере возможности, помочь Дарьюшке.
Два дня назад дворник Григорий на заднем дворе резал кур и индюшку, которых Домна Кузьминишна привезла с рынка. Отрубив птицам головы, мужик понес их на кухню, сам же там и остался помогать ощипывать тушки. Дарья в это время стояла у окна, выходившего во двор, а Аглая сидела у мольберта и писала очередной портрет своей сестры. Вдруг та встрепенулась и, махнув рукой девочке, что сейчас придет, побежала вниз. Аглая удивилась и выглянула в окно. Там она с удивлением увидела, как Дарья в домашних туфлях и накинутой старенькой шубейке, оглядываясь, с осторожностью подбежала к чурке, возле которой валялись куриные головы, достала из кармана белую тряпицу и помакала ею о кровь птицы. Потом, также скрытно, вернулась назад. Девочка подумала было, что сестра готовится к святочным гаданиям, но, когда на следующий день увидела матушку в комнате сестры, что-то строго спрашивающей у той, Аглая с ужасом увидела, как Дарья показала матери эту тряпицу. Домна Кузьминишна удовлетворенно кивнула и вышла, а сестра быстро сожгла неприятную вещь в топившейся голландской печи.
Теперь, видя смятенное состояние Дарьюшки, девочка интуитивно связывала настроение сестры с тем случаем, но понимала, что помочь не может, и это угнетало её.
Год 1955, январь
Дворник Иван Степанович Ходуля тихонько стукнул костяшками пальцев в дверь кабинета Дубовика. Услышав ответ, приоткрыл дверь и робко вошел.
– Вызывали, Андрей Ефимович?
Дубовик замахал ему рукой:
–Что ты там стучишь, жмешься, проходи к столу, закуривай! – он показал на пачку папирос, лежащую в пепельнице на приставном столе. – У меня к тебе есть дело!
Поняв, что никто не собирается его отчитывать за «самодеятельность» с принесенными картинами, хотя Туманова говорила о недовольстве подполковника, Степаныч сел и, успокоено, затянулся дорогой папиросой.
– Расскажи-ка мне, Иван Степанович, о своей находке. Как это ты удосужился раскопать целую художественную галерею? – пряча улыбку, спросил Дубовик.
– Да какая там галерея? Шутите? Галерея – я знаю – это, как в Москве, в музее! У меня дочь там была, рассказывала! Целый день ходила! А тут!.. Несколько картин, да ещё кое-какие безделушки!.. – махнул рукой дворник. – Но я ничего себе не взял! – он истово перекрестился, хотя Дубовику показалось это не совсем искренним. – Картины, видишь ли, красивые, думал, пусть висят в кабинетах, а всё остальное снес в Красный уголок. Только сову – одну статуэтку – на стол товарища генерала поставил… Да чернильный прибор красивый такой, старинный! Тоже ему отдал! – дворник опять перекрестился.
– Ты что, верующий?
– Да это больше по привычке!.. Жена моя, та!.. А я так, по привычке… – чувствовалось, что вопрос подполковника смутил его.
– Успокойся, это личное дело каждого. Только не крестись ты, где надо и не надо, сам понимаешь, где работаешь!.. – укоризненно произнес Дубовик. – Расскажи лучше, как нашел всё это?
– Так, товарищ генерал распорядился освободить подвал от хлама, там ещё с революции барахло гнилое валяется. Сказал, что бильярдную комнату делать будут. Ну, стены стали чистить с рабочими, а в одном месте штукатурка отвалилась, там, смотрим, заложенная кирпичом дверка. Ну, вот за ней махонькая такая комнатка, кладовочка, значит… А там… Картины в паутине, сундук с книжками и всякими дамскими штучками. Будьте покойны, всё перенесли, ни одной безделицы не взяли, я и за рабочими проследил! – Степаныч пристукнул по зеленому сукну большой ладонью с корявыми пальцами, но тут же застеснялся и убрал руку под стол. – А вам я самую красивую картину принес, вы у нас… такой!..
Дубовик не сдержался и засмеялся:
– Это какой же?
– Ну, красоту понимаете, женщины вас любят! – дворник и сам широко улыбнулся.
– Женщины любят не только меня, а насчет красоты… Что ж в этой картине красивого? Странное – да! – подполковник снял очки и, держа их за одну дужку, протер согнутым пальцем глаза. – Так почему ты решил, что картина самая красивая? Чем она тебе приглянулась? – и, повернув голову, бросил взгляд на полотно, стоявшее, по-прежнему, на стуле у стены.
Дворник, увидев, куда смотрит Дубовик, оглянулся и показал рукой на картину:
– Так там вон какая… – он замешкался, не зная, как правильно сказать, – то ли лань, то ли женщина! Уж больно красивая! Платье, на ней, какое! Ангелочки порхают! А если что, так я унесу?.. – в готовности тут же выполнить распоряжение дворник даже приподнялся со стула.
– Нет-нет! Мы с тобой сделаем следующее: ты все картины, какие разнес по кабинетам, принесешь сюда, а безделушки я посмотрю на месте, в Красном уголке, – остановил его Дубовик.
– И у товарища генерала забрать? – с робостью в голосе спросил Степаныч.
Дубовик улыбнулся:
– Туда я тоже сам схожу… И прямо сейчас! А ты, Иван Степанович, иди, собирай свою «галерею»!
Генерал кого-то строго отчитывал по телефону.
Вошедшему Дубовику он энергично замахал рукой, показывая на стул возле своего стола. Продолжая разговаривать, достал из сейфа бутылку дорогого коньяка и два хрустальных стакана. Поставив на стол, показал жестами, чтобы Дубовик разлил коньяк.
Опустив, наконец, трубку на рычаг, тяжело отдуваясь, генерал Лопахин опустился на стул:
– Ну, давай, выпьем что ли?..
– Причина?..
– А-а, у жены день рождения, а она два дня назад умчалась на курорт! Дети разлетелись, кто куда! Один, как перст!.. – посетовал Лопахин. – А у нас, сам знаешь, не с каждым позволить себе можно!.. – он сделал глоток коньяка, поставил стакан и спросил: – Что там с этими картинами? Я ведь распорядился Тумановой вызвать эксперта из Худфонда, так она примчалась, говорит, дескать, не могу, товарищ генерал, выполнить ваше приказание: у Дубовика очередное «завихрение»!
– Так и сказала? – улыбнулся тот, потягивая коньяк.
– И ещё кое-что добавила, по-мужичьи! Ну, так что с этими картинами не так?
– Пока не знаю!.. Может быть, действительно, поднимаю пыль на пустом месте, но!.. Интуиция моя редко меня подводила. Надо мне покопаться в архивах МВД и областной библиотеки. Что-то мне встречалось такое… – Дубовик покрутил в воздухе пальцами, – …в старых газетах, когда работал по одному делу… Надеюсь, препятствий не будет?
– А они, тебя, что, когда-то останавливали? – с сарказмом спросил Лопахин. – Ладно, занимайся! Разрешаю! Закрою глаза на твоё неслужебное расследование!
– Благодарю за индульгенцию! – спрятав улыбку, козырнул Дубовик.
– Не хами! С Фондом сам свяжешься! Если действительно, что стоящее, пусть забирают! Вот у меня тут, взгляни, сова – интересная вещичка, как думаешь, ценная? Да прибор вот чернильный! – генерал показал на стол, где стояла фигурка совы из какого-то черного металла и чернильница на мраморной подставке.
Дубовик повертел в руках обе вещицы. Сову он отставил сразу, сказав:
– Никакого клейма нет, вряд ли, это представляет какую-нибудь ценность, а вот прибор… Здесь написано… «Торговый дом Романовых»! Ну, это, может быть, что-то и значит для искусствоведов… Ладно, сами разберутся!