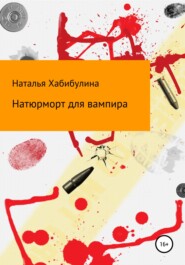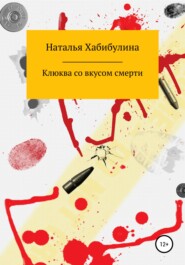По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Черная химера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Майор почувствовал, как прыгнуло в груди сердце: «Марина!», но тут же остудил себя: это не могла быть она, да и, приглядевшись к женщине, понял, что она совсем не похожа на его погибшую жену. Тогда что так заставило встрепенуться его, затосковавшее вдруг, сердце? Он, ещё раз взглянув своей пассажирке в лицо, понял: глаза! Такие же большие голубые и очень заботливые, такие же нежные и умные, с ласковыми искорками.
Калошин, неожиданно для себя, извинился, поняв, что слишком пристально смотрит на женщину, она же, напротив, ничуть не смущаясь, спокойно спросила:
– Вас что-то беспокоит?
– Ваши глаза… – он даже подивился своей смелости, – извините… – и, дернув рычаг скорости, довольно грубо сорвал машину с места, но тут же взял себя в руки, и дальше автомобиль уже послушно и мягко, как только это было возможно, двигался в снежной пелене.
– Что же вы все извиняетесь? – голос женщины был спокоен, она не кокетничала, но и не испытывала стеснения. И Калошин не удивился, когда она вдруг представилась:
– Лана! – поправилась: – Светлана! А вообще, называйте, как удобнее.
– Геннадий Евсеевич! О, просто Геннадий! – взглянул на спутницу, и они весело рассмеялись. Калошин поймал себя на том, что вдруг ушла давящая, саднящая боль мужского одиночества. Ему безудержно захотелось дарить кому-то свои ласки, затяжные поцелуи. С удивлением почувствовал возвращающуюся мужскую силу, и это наполнило его гордостью. Он перестал злиться на Дубовика за его мастерские ухаживания, потому что вспомнил, как это делал сам, пусть и не с таким изяществом, как тот, но все же иногда получалось красиво.
Он спросил, куда надо ехать. Светлана, к его радости, назвала адрес гостиницы, где они остановились с Дубовиком. Оказалось, что она архитектор, и в К*** приехала в командировку. Сама же снимает комнату в районном центре, а в Энске живет её мать с одиннадцатилетним сыном.
Поймав на себе вопросительный взгляд Калошина, сказала просто:
– Муж мой был штурманом дальнего плавания, настолько дальнего, что вот уже шесть лет не может добраться до своей «гавани», – и махнула рукой, – так я и стала «брошенкой»!
Калошину захотелось её утешить, но он вдруг понял, что она в этом вовсе не нуждается. Была в ней какая-то внутренняя сила и гордость, которые просто не допускают жалости.
Майор, сказал, что тоже приехал в командировку. Обмолвился, что живет один с дочерью. Так, уже через двадцать минут они многое узнали друг о друге, и Светлана согласилась дождаться его в машине, пока он будет беседовать со свидетелем, так как её работа на сегодня все равно уже окончена, и она с удовольствием принимает приглашение Калошина поужинать в гостиничном ресторане.
Лыков оказался мужчиной среднего возраста с довольно симпатичной внешностью с едва приметными веснушками на носу, что придавало его лицу особый шарм. «Наверняка, нравится бабам» – подумал про себя майор.
Лыков встретил Калошина в кабинете отсутствующего заведующего поликлиникой, сам сел в кресло и на такое же указал рукой Калошину. Было в его взгляде что-то властное, но без надменности. Чувствовалось, что человек привык повелевать, но с майором держался ровно, не выпячиваясь, но и не заискивая.
На вопрос о подписях в историях болезни ответил, что это было лишь раза три, в отсутствии другого врача. Сам он хоть и имеет степень кандидата наук, но давно не практикует, и повышать свой медицинский статус не планирует, так как на должности заместителя заведующего отделом здравоохранения его больше увлекают хозяйственные и организационные дела. При этом он развел руками, дескать, что тут поделать, бывает и такое. Турова он не помнит, так как, по его собственному выражению, на имена и фамилии внимания не обращал. Они ему ни о чем не говорят.
– С кем вы непосредственно контактировали в клинике?
– Только с покойным Шаргиным. И только на моей территории. Он сам приезжал по делам.
При упоминании имени Кривец он грустно улыбнулся:
– Знаете, до сей поры не могу понять, как такая женщина могла вдруг исчезнуть? Вообще, для нас для всех это было шоком. Она была прекрасным специалистом в этой области медицины, помогала Шаргину. Тот всегда восторженно о ней отзывался.
– Но вы же сказали, что ни с кем не были знакомы?
– Я подчеркиваю: о ней много говорил Шаргин.
– В связи с чем? Согласитесь, это немного странно, что доктор, приезжая к вам по делам, так много говорит о своей медсестре, а её исчезновение вызывает шок у человека, не знающего её.
– Да, я немного слукавил. Я бывал в клинике, но, исключительно, по личным делам. Моя жена страдала тяжелой формой невроза. И мне пришлось инкогнито привозить её к Шаргину. Должен сказать, что он с блеском справился с жениным недугом. Скажу сразу, я и сам окончил курс по психиатрии, но… – он замолчал, пытаясь найти правильные слова: – лечить близкого человека крайне сложно. Тем более, что моя жена в тот момент страдала некоторым образом от моего… ну, не очень чистоплотного мужского поведения, и меня, как доктора, не воспринимала.
Узнав об убийстве Оксаны Ильченко, он болезненно поморщился:
– Я видел эту девушку не однажды. Красивая! А за что же её так? – Калошину этот вопрос показался отдающим фальшью, и, видимо, невольный испытующий взгляд на Лыкова заставил того признаться: – Да, я честно сказать, всегда думал, что она плохо кончит. Резва была чрезмерно.
– И в чем это выражалось?
– В отношении к мужчинам. Были у неё и женатые, насколько это явствовало из разносимых по городу слухов.
– Но ведь вы живете в райцентре, откуда же черпали эти сведения?
Лыков, немного помявшись, посмотрел прямо в лицо Калошину:
– Майор, я вижу, что вы порядочный человек, и мои слова не обратите мне во вред. Хоть это и не касается вашего дела, но скажу, чтобы потом не возникало ненужных вопросов: у меня здесь живет любимая женщина, а я человек женатый, и, в силу понятных причин, разводиться не собираюсь. Фамилию своей любовницы могу назвать безо всяких условий, если это вдруг вам понадобится.
– А что, Оксана тоже принимала участие в лечении вашей жены?
– Да нет, там была только Кривец. Мы старались привлекать к этому, как можно меньше людей. Условия в клинике для этого прекрасные, как вы, наверное, успели заметить. Отдельный въезд позволяет хранить все в тайне.
– Но вы сказали, что видели девушку не однажды?
– А-а, вот вы о чем! Она была соседкой моей… пассии. У неё мы неоднократно и встречались.
Калошин вполне оценил честное признание Лыкова о том, что у него есть женщина. И это ему импонировало, хотя он не очень жаловал номенклатурщиков и функционеров, особенно таких, которые получив хорошее образование, имея возможность посвятить себя служению простым людям, вдруг уходили в хозяйственную или торговую сферу ради личной выгоды и красивой жизни.
Фамилию Песковой Лыков слышал краем уха, в связи с её исчезновением, и знал лишь только то, что говорили «товарищи из милиции», что не очень-то и удивило Калошина. Про Чижова майор спросил уже чисто формально. В глазах Лыкова он поймал немой вопрос и коротко сказал о смерти пациента. Но Калошину почему-то показалось, что «замзав», как он мысленно прозвал своего собеседника, ждал другого ответа: он вдохнул воздух, будто собираясь что-то спросить, но передумал. Вернуть разговор в нужное русло уже не удалось. Было видно, что Лыков полностью контролировал все свои эмоции и слова. Тогда майор решил закончить беседу, а все свои сомнения обсудить с Дубовиком.
Подполковник Дубовик позвонил в дверь квартиры Кривец. Ему открыл здоровяк в спортивных штанах, вытянутых на коленках. Синяя майка, хоть и была чистой, но имела довольно затрапезный вид, была растянута и не глажена. Но Дубовик сразу для себя определил: не обращать внимания на подобные мелочи. Его должно интересовать только то, что может пролить свет на исчезновение хозяйки этого дома.
Подполковник показал удостоверение открывшему мужчине. Тот недовольно поморщился, но пригласил гостя в квартиру. Сразу же, за своей спиной, Дубовик услыхал ворчание и жалобы хозяина по поводу того, что отсутствие жены не дает им с дочерью нормально существовать. Девочке уже двенадцать лет, ей нужна мать, а эта «шалава» удрала с любовником. Как ему найти её, чтобы вытребовать алименты? Все это Дубовик решил пропустить мимо ушей, иначе, чувствовал, мог не выдержать и сказать кое-что нелицеприятное этому бугаю, который, как подозревал подполковник, все время проводил в лежании на диване и брюзжании. И, в самом деле, на тахте лежало откинутое верблюжье одеяло, а в изголовье покоилась смятая подушка в старой наволочке.
Мужчина предложил стул у круглого стола с клетчатой скатертью. Там же сидела девочка в пионерском галстуке, перед ней были разложены тетради и учебники. Было понятно, что ребенок занят уроками.
При виде чужого мужчины она встала, тихо поздоровалась и вышла в другую комнату.
Дубовик осязаемо почувствовал, что девочке плохо, и для себя решил позже обязательно поговорить с ней. «Лучше в школе, в отсутствии отца», – и, подумав это, перенес свое внимание на хозяина.
Тот сел напротив подполковника и посмотрел на него тяжелым взглядом:
– Вы что-то узнали о Любке? – чувствовалось, что с языка этого мужчины готовы были сорваться проклятья в адрес жены.
– Как я понимаю, вы её осуждаете? – напрямую спросил Дубовик.
– Осуждаю?! – мужик взвился. – Да я её ненавижу! Чтоб сгореть ей в аду, б…и! – и с силой ударил кулаком по столешнице.
– Споко-ойно! Давайте так: я спрашиваю – вы отвечаете, только по существу, без лишних эмоций и ругательств. Поверьте, я их тоже знаю. Могу продемонстрировать. Но, думаю, обойдемся без этого, – Дубовик хотел было заметить хозяину, что у него несовершеннолетняя дочь, но понял, что будет только, как говориться, «метать бисер перед свиньями» – Кривец был весь в своем личном горе, и благоразумно промолчал.
– Мне не за что её теперь любить – она нас бросила! – мужчина обиженно надул губы, а Дубовик утвердился в мысли, что жалеет этот боров только себя.
– Но вы можете рассказать о её последних днях перед исчезновением?
– Все было, как обычно. Сумела не показать вида.
– И все-таки, поподробнее… – настойчиво произнес Дубовик.