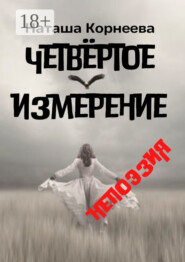По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Забытый клоун
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
исподтишка укусами щипков,
под небом, как на заднице у бабы,
краснеют дни прыщавостью юнцов,
созреют синяками ночи, грубо
натрет бодягой утро до рубцов,
скривит в презрении выцветшие губы,
и, шаркая по скомканным следам,
бездомным псом, вынюхивая кости,
считая не по дням и по годам,
а по числу зажатых зерен в горсти,
вычеркивает нас в календарях,
пришитых объявленьем на заборах,
мы – пассажиры в разных поездах,
в поломанных, товарняках и скорых,
нам предлагают чай проводники
в залапанных и сколотых стаканах,
мы сами ставим на часах звонки,
себя канонизируя в экранах,
мы – плюшевые мишки без ноги,
мы – мячики утопленные таней,
нас на веревке, как грузовики,
таскает малышня, а из гортаней
невнятным комом "благородный" звук
то шепотом, то Гавриилом выйдет,
я в детстве плакала, читая про Му-му
и убивала пулями навылет
хозяйку , безответного раба
и признанного классика, конечно,
и я не понимала никогда
ни волчью стаю, ни телячью нежность.
у солнца не бывает выходных,
и говорят, что солнце остывает,
во-первых, это долго, во-вторых,
никто из нас об этом не узнает.
Саранка
Прощай,
прощенья не проси,
на воскрешение прошенных,
сквозь пальцы оголенности,
чужие прикрывают шоры,
под снегопады под зонтом,
по лужам на коньках и санках,
язык, намыленный саранкой,
и пустота под языком.
Растрепан пух по берегам,
и небо утопилось в речке,
прилипла перьями к рукам
несогласованность наречий,
всё, до последнего пера,
как кур подохших, ощипали,
потом коптили и прощали
за вымершее не вчера,
и золотинкой в кулаке
последнее зажато солнце,
и сказкою о дураке
пытались высушить болотце,
гоняли глупых куликов,
да с кочки прыгали на кочку,
вымучивали к строчке строчку
под низким сводом потолков,
прощай,
прощение оставь,
пусть вместо камня сердце точит,
перед глазами стаи точек,
да из-за пазухи платочек
и без обратного состав.
Проспавшие сны
стоять непросто на ветру,
когда смывают берег волны,
и волосатым пальцем сторно
последнюю щелчком звезду-
рассвет затеет чехарду,
зима пока огнеупорна,
капель стоит в очередях,
прохожий, как аскет-монах,
на дермантиновом сиденье
в зачуханной трамвайной келье
постится безысходным сном,
постылых сумерек синдром
размазывает серость улиц,
пернатым пузырем надулись
и голуби, и воробьи,
огрызками ничьей любви
под небом, как на заднице у бабы,
краснеют дни прыщавостью юнцов,
созреют синяками ночи, грубо
натрет бодягой утро до рубцов,
скривит в презрении выцветшие губы,
и, шаркая по скомканным следам,
бездомным псом, вынюхивая кости,
считая не по дням и по годам,
а по числу зажатых зерен в горсти,
вычеркивает нас в календарях,
пришитых объявленьем на заборах,
мы – пассажиры в разных поездах,
в поломанных, товарняках и скорых,
нам предлагают чай проводники
в залапанных и сколотых стаканах,
мы сами ставим на часах звонки,
себя канонизируя в экранах,
мы – плюшевые мишки без ноги,
мы – мячики утопленные таней,
нас на веревке, как грузовики,
таскает малышня, а из гортаней
невнятным комом "благородный" звук
то шепотом, то Гавриилом выйдет,
я в детстве плакала, читая про Му-му
и убивала пулями навылет
хозяйку , безответного раба
и признанного классика, конечно,
и я не понимала никогда
ни волчью стаю, ни телячью нежность.
у солнца не бывает выходных,
и говорят, что солнце остывает,
во-первых, это долго, во-вторых,
никто из нас об этом не узнает.
Саранка
Прощай,
прощенья не проси,
на воскрешение прошенных,
сквозь пальцы оголенности,
чужие прикрывают шоры,
под снегопады под зонтом,
по лужам на коньках и санках,
язык, намыленный саранкой,
и пустота под языком.
Растрепан пух по берегам,
и небо утопилось в речке,
прилипла перьями к рукам
несогласованность наречий,
всё, до последнего пера,
как кур подохших, ощипали,
потом коптили и прощали
за вымершее не вчера,
и золотинкой в кулаке
последнее зажато солнце,
и сказкою о дураке
пытались высушить болотце,
гоняли глупых куликов,
да с кочки прыгали на кочку,
вымучивали к строчке строчку
под низким сводом потолков,
прощай,
прощение оставь,
пусть вместо камня сердце точит,
перед глазами стаи точек,
да из-за пазухи платочек
и без обратного состав.
Проспавшие сны
стоять непросто на ветру,
когда смывают берег волны,
и волосатым пальцем сторно
последнюю щелчком звезду-
рассвет затеет чехарду,
зима пока огнеупорна,
капель стоит в очередях,
прохожий, как аскет-монах,
на дермантиновом сиденье
в зачуханной трамвайной келье
постится безысходным сном,
постылых сумерек синдром
размазывает серость улиц,
пернатым пузырем надулись
и голуби, и воробьи,
огрызками ничьей любви