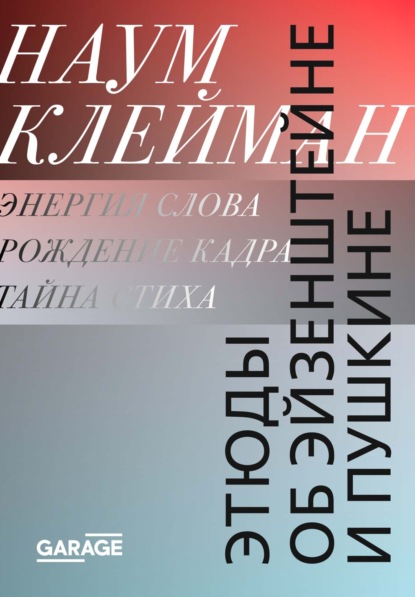По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Этюды об Эйзенштейне и Пушкине
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Этюды об Эйзенштейне и Пушкине
Наум Ихильевич Клейман
A / The Arts
Фильмы Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"» и «Иван Грозный», которым посвящены два первых раздела этой книги, вошли в сокровищницу мирового кино – о них написано множество книг и статей на разных языках. О романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» – его автор анализирует в третьей главе – существует целая библиотека исследований и комментариев. Киновед Наум Клейман работал над собранными в издании аналитическими этюдами на протяжении пяти десятилетий. Учась у предшествующих и современных исследователей, он в то же время старался обращаться напрямую к текстам классических произведений – не только к завершенным, но и к черновым вариантам, а также к окружающим их документам и свидетельствам. Внимательное, непредубежденное и доверительное отношение к самим классикам – вместе с нашим историческим опытом – может, по убеждению автора, обеспечить новое, иногда непривычное прочтение пророческих смыслов и эстетических открытий в, казалось бы, знакомых творениях
Наум Ихильевич Клейман
Этюды об Эйзенштейне и Пушкине
* * *
Все права защищены.
© Наум Клейман, текст, 2022
© Анастасия Орлова, дизайн-макет, 2022
© Фонд развития и поддержки искусства «Айрис» / IRIS Foundation, 2022
* * *
Редакция и автор благодарят Государственный музей А. С. Пушкина и Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) за помощь в воспроизведении автографов и эскизов.
…Наука самая занимательная
(Предисловие)
Читатель догадался, конечно, что в заглавии – вторая часть афоризма Пушкина: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». В «Арапе Петра Великого» афоризм встречается в рассказе о том, чему и как учился маленький Ибрагим Ганнибал: ему император разрешил присутствовать на своих совещаниях с приближенными. В обсуждениях дел и проблем государства будущий прадед поэта постигал возможность задавать вопросы и размышлять в поисках ответов.
Вне повести афоризм обрел множество толкований и употреблений. За ним стоит медленное, внимательное чтение с желанием глубже проникнуть в смысл написанного. О нем вспоминают, стремясь постичь логику развития идеи, концепции, замысла произведения. Успех повествования в биографическом жанре обеспечен, если оно не сводится к изложению жизненных фактов, а следует за мыслями незаурядной личности – позволяет читателю наблюдать рождение проектов и творений, постигать истоки и последствия деяний…
В искусствознании есть дисциплина, которая буквально соответствует пушкинскому афоризму. В филологии ее называют текстологией и кратко определяют как науку об истории текста. Эта история подразумевает становление замысла от идеи и первого наброска до завершения или прекращения работы, варианты прижизненных и посмертных публикаций и – шире – судьбу произведения в веках. Изучаются разные авторские редакции и изменения, цензурные и редакторские вмешательства (иногда при участии самого автора, чаще – против его воли), раны, нанесенные жестоким временем, и попытки залечить их.
Термин «текст» понимается широко и относится не только к словесности. В изобразительном искусстве этим термином определяют все визуальные проявления творчества – от первобытных петроглифов и античной скульптуры до видеоарта и инсталляций. Архитектура включает в свои «тексты» не только здания, но ансамбли строений, прилегающие парки, природные или городские ландшафты. Аналог текстологии в музыке распространяется на опусы композиторов и фольклор, на записи разных интерпретаций. В кино текстологический анализ обращен ко всем формам и этапам индивидуального и коллективного творчества: от литературных сценариев и режиссерских разработок, эскизов декораций и костюмов, операторских экспликаций и снятых кадров до разных вариантов целого фильма в его эстетических и технических параметрах…
Конечная цель текстологов – обеспечить читателю, слушателю, зрителю доступ к подлиннику: произведение должно восприниматься во всей полноте и точности авторского творения, без посторонних искажений. В результате изучения и разысканий становится возможным не только реставрировать произведение, залечивая повреждения от воздействия времени, но и реконструировать его, выявляя и устраняя искажения оригинала от вмешательств цензуры, от капризов заказчика либо от «помощи» доброжелателей, полагающих, что они лучше автора понимают запросы, потребности и вкусы публики.
Может показаться, что текстология – дисциплина сугубо прикладная, необходимая лишь для исправной публикации и качественной демонстрации произведений искусства. Меж тем она часто открывает прежде неведомые смыслы и обновляет восприятие, а иногда ведет к переоценке места и роли творений и самих творцов в истории культуры.
Известно много случаев непонимания новаторских идей современниками – неприятия ими творцов, обогнавших свою эпоху. Сколько судеб в искусстве было искалечено слепотой и глухотой профанов, предубежденностью экспертов и коллег! Сколько шедевров не было вовремя признано!
Но не менее опасен и пресловутый хрестоматийный глянец на признанной классике. Восхищение современников часто не исчерпывает авторского замысла, не передает смысловой полноты произведения. Застывая с годами в подобие аксиом, ранние оценки и характеристики начинают мешать непосредственному восприятию: мы видим не создание художника, а прижившуюся трактовку былого, пусть и весьма авторитетного интерпретатора.
Между тем со временем классика способна раскрываться по-новому. Она будто впитывает в себя опыт истории, и образные системы, некогда созданные мастерами, поворачиваются к нам сторонами, прежде не замеченными или не понятыми.
Конечно, не всегда это связано с радикальной переоценкой забытых на века гениев – осознанием их истинной значимости в культуре, как это случилось с Андреем Рублёвым и Уильямом Шекспиром, Доменико Теотокопули, по прозвищу Эль Греко, и Иоганном Себастьяном Бахом. Постоянно уточняется, расширяется, обогащается восприятие тех произведений, которые не забыты и даже изучаются в общеобразовательных школах.
Именно поэтому историкам и теоретикам искусства необходимо почтительно, но без догматизма относиться к толкованиям предшественников: надо ценить их прозрения и понимать обусловленность выводов контекстом эпохи, общим уровнем науки и субъективной установкой исследователя. Надо возвращаться к признанным творцам и творениям: непредубежденно обращаться к источникам и подготовительным материалам, к черновикам, к вариантам и разным редакциям, к признаниям самих авторов, свидетельствам их друзей и соратников. Заново изучая процесс воплощения замысла и его результат, можно разглядеть и понять проявленные историей смыслы.
Судьба подарила мне приобщение к текстологии еще во время учебы на киноведческом факультете ВГИКа. В 1958 году, через 10 лет после смерти С. М. Эйзенштейна, был снят запрет со второй серии «Ивана Грозного». Фильм вызвал ожесточенные споры. Даже благожелательные к режиссеру критики не могли поверить, что он осознанно пошел на обличение жестокой тирании: они утверждали, что крамолу невольно, вопреки замыслу мастера, породил его природный талант. Иных гуманитариев возмутили отступления от фактов истории. Некоторых кинематографистов раздражала «неправильная» с позиций экранного жизнеподобия форма: открытая условность в изображении и сюжетном действии, в характерах и обликах персонажей, в жестах и интонациях актеров. Стилистика казалась архаичной на фоне того узнаваемого «реализма» и субъективно окрашенной «лиричности», которые в период оттепели сменили демагогию и выспренность «культового» кино.
Меня фильм потряс эмоционально и поразил последовательно проведенным через все элементы зрелища преображением, которое не могло быть нечаянным. Почувствовав необходимость понять замысел картины, я выбрал «Грозного» для курсовой работы и попросил кафедру киноведения помочь с допуском в Центральный (ныне – Российский) государственный архив литературы и искусства, где хранился архив Эйзенштейна[1 - При ссылках на архивные материалы, хранящиеся в РГАЛИ, в личном архиве С. М. Эйзенштейна (ф. 1923), указывается номер описи, единицы хранения и листа.]. По правилам того времени, работа в ЦГАЛИ разрешалась аспирантам, иногда дипломникам, но не третьекурсникам.
– Почему бы тебе не пойти к Аташевой, вдове Сергея Михайловича? У нее еще много бумаг из его архива, – вдруг предложила Гита Соломоновна Авербух, заведующая Кабинетом истории советского кино. – Я позвоню Пере и представлю тебя.
Звонок оказался путевкой на всю жизнь. В первый визит к Пере Моисеевне на Гоголевский бульвар я увидел эскизы и заметки к «Ивану Грозному», лишь малая часть которых была тогда опубликована, и понял, что их изучение – дело на долгие годы. Ко второму приходу мне приготовили рукопись теоретической книги «Неравнодушная природа», над которой Сергей Михайлович работал, когда «Грозный» еще снимался. Курсовая работа естественно переросла в дипломную: я попытался на примере фильма и еще не изданной книги Эйзенштейна изложить теорию кинематографической полифонии, определявшей дух, строй и стиль «трагедии о Русском Ренессансе XVI века».
В 1961 году редколлегия будущего шеститомника трудов Эйзенштейна во главе с Сергеем Иосифовичем Юткевичем доверила мне публикацию во втором томе глав незавершенной книги «Монтаж» (1937). Затем вместе с Леонидом Козловым, выпускником филфака МГУ, пришедшим к Пере Моисеевне Аташевой на год раньше меня, мы начали подготовку текста «Неравнодушной природы» для третьего тома. С тех пор на протяжении шести десятилетий вместе с российскими и зарубежными коллегами я принимаю участие в обнародовании книг и статей, рисунков и документов из необъятного архива Эйзенштейна. Не только новые публикации меняют общую картину жизненного и творческого пути режиссера, теоретика, графика, педагога – многие его идеи, устремления, проекты стали иначе восприниматься в меняющейся панораме истории, в открывающихся контекстах и соотношениях культуры ХХ века, в связях с наследием прошлых веков и в утопических устремлениях к будущему.
В Отечественном отделе Госфильмофонда, где в том же 1961-м я начал работать после окончания института, одним из видов научной работы стало восстановление дореволюционных и ранних советских фильмов, полученных из фильмотеки ВГИКа, со студийных и прокатных складов страны. Многие ленты хранились некомплектными, в разных копиях недоставало разных кадров, сцен и целых частей, отсутствовали интертитры, пленка находилась в плачевном техническом состоянии. Зная мою причастность к редколлегии шеститомника, начальник отдела Константин Павлович Пиотровский поручил мне реконструкцию немых фильмов Эйзенштейна, начиная с самого знаменитого и, как выяснилось, самого искаженного – «Броненосец „Потёмкин“». Его негатив вернулся в СССР из Германии перемонтированным по требованиям тамошней цензуры, ни одной копии в авторском монтаже у нас не сохранилось.
Здесь не место описывать проблемы и сложности, с которыми мы тогда столкнулись, пытаясь вернуть в фильм все вырезанные кадры. На первых порах мы допускали ошибки и неточности из-за неразвитости кинотекстологии – от неосознанности нами ее принципов и законов. Только в канун 1975 года, когда фильму исполнялось 50 лет, Госкино и «Мосфильм» приняли предложение Комиссии по творческому наследству Эйзенштейна восстановить и выпустить в прокат озвученную музыкой версию «Броненосца». Нам удалось, наконец, выписать из зарубежных киноархивов хранившиеся там старые копии. Пополняя дубль-негатив почти всеми некогда утраченными кадрами, мы старались вернуть и авторский монтаж картины. Но кое-что исправить тогда не удалось. Лишь к 2005 году наш мюнхенский коллега Энно Паталас, обнаружив в Британии полную узкопленочную копию фильма, вставил последние пропавшие изображения, восстановил титры в подлинной графике, вернул эпиграф, дважды смененный цензурой.
Сравнивая монтаж в разных копиях фильма и стараясь понять, какая из них ближе к оригиналу, поневоле задаешься вопросом об авторском замысле. Еще в Госфильмофонде, потом на Мосфильме, я то и дело обнаруживал в «Потёмкине» мотивы и темы, которые не укладывались в прокрустово ложе утвердившихся трактовок его смысла и стиля. С момента премьеры в Большом театре нас уверяли, что «Броненосец» призывает к революции, воспевает ее и учит ей. Той же трактовкой, основанной просто на материале событий 1905 года, «подрывной» фильм был запрещен во многих государствах, либо цензура требовала смягчить его, вырезая и переклеивая кадры. Чем полнее при реконструкции оказывалось изображение, чем точнее выстраивался его монтажный порядок, тем яснее становилось, что фильм несет с экрана в жизнь совсем иную весть.
Ее, впрочем, сразу уловили наиболее проницательные зрители. Одним из них был виднейший кинокритик и сценарист Веймарской Германии Вилли Хаас. В рецензии на «Потёмкина», напечатанной журналом Film Kurier 30 апреля 1926 года, сразу после премьеры в Берлине, он утверждал:
«Строгое соблюдение единственного, вполне всеобщего, вполне общечеловеческого мотива; но не того, что понимают под „мотивом“ американцы, что опять-таки есть рассказ, фабула, а того вполне общечеловеческого побуждения, которое пронизывает плоть и кровь каждого человека, пусть даже самого темного. Это здесь присутствует. Оно называется: исполненное ненависти противодействие принуждению, братание в этом экстатическом бунте против серого, придавленного, скованного существования. Разве в этом есть что-то общее с коммунизмом? Навряд ли. Коммунизм – это дисциплина. Сущность этого побуждения можно с тем же успехом использовать и против коммунизма. Это наверняка не пропагандистский советский фильм, и если он был задуман как таковой, то как таковой не удался. Он сделан из той материи, из которой делается всякий мятеж. И каждый человек в какой-то складочке своего сердца – мятежник против принуждения. Поэтому каждый человек, без исключения, мог бы творчески участвовать в создании такого фильма»[2 - Хаас В. Броненосец «Потёмкин» / пер. С. Е. Шлапоберской // Киноведческие записки. М., 2002. № 59. С. 47–48.].
В 1975 году я не знал этой статьи. Но занятия текстом самого фильма – каждой монтажной склейкой, каждым кадром и любым движением в нем – подталкивали к аналогичным выводам. И когда журнал «Искусство кино» в канун полувекового юбилея пригласил меня написать о «Броненосце», я принес в редакцию, не очень надеясь на публикацию, текстологический этюд «Надо поднять голову». К моему изумлению, главный редактор журнала Евгений Данилович Сурков, обычно нещадно правивший статьи, внес единственную поправку – заменил название на «Только 15 кадров», – и этюд появился в 3-м номере за 1976 год.
Однако мысль о приблизительности текстологических правил и обычаев в кино не давала покоя. Это касалось не только реконструкции фильмов, но и издания теоретического, мемуарного, публицистического наследия. Произвол редакторов, публикаторов, составителей сборников часто был следствием не злой воли, а незрелости кинотекстологии как полноценной дисциплины. Нам мог помочь опыт наук о «старших» искусствах, в частности филологии. В науке о литературе самым развитым и авторитетным в России направлением была пушкинистика.
Сергей Михайлович Бонди, крупнейший авторитет в области пушкинской текстологии, вел семинар на филфаке МГУ. Робея попросить у него разрешения присутствовать на занятиях, я зайцем пробрался в старое здание университета на Моховой в надежде услышать рецепты текстологической премудрости. Профессор раскрыл томик Пушкина и два академических часа читал – почти без пояснений, лишь повторяя с разными интонациями некоторые слова или стихи, – вторую главу «Евгения Онегина». В заключение он произнес сентенцию, звучавшую примерно так: «Пушкина надо читать медленно и внимательно – и вы найдете у него то, что вам необходимо». После паузы, пожевав губами мысль, Бонди добавил: «И еще что-нибудь неожиданное!»
Это и был, как вскоре мне стало понятно, главный мудрый урок семинара по текстологии. Но меньше всего я мог тогда предположить, что сам буду время от времени посильно заниматься рукописями Пушкина.
В 1977 году вышла в свет книга Анны Андреевны Ахматовой «О Пушкине». В ней была напечатана статья «Пушкин и Невское взморье» с анализом отрывка «Когда порой воспоминанье…». В его тексте Анна Андреевна распознала приметы онегинской строфы, и это текстологическое наблюдение задело мое любопытство. В то время мой коллега и товарищ Александр Тархов работал над комментариями к «Евгению Онегину» для «Школьной библиотеки» издательства «Художественная литература». Он часто захаживал в Научно-мемориальный кабинет Эйзенштейна, где я работал, и мы обменивались мнениями о множестве загадок романа в стихах. В разговоре с Сашей возникла идея взглянуть на фотокопию автографа «таинственного отрывка», хранившуюся в литературном Музее А. С. Пушкина.
Черновая рукопись поэта показалась просто недоступной для прочтения, и я приравнял текстологов, расшифровавших ее, к волшебникам или по меньшей мере к великим криминалистам. Но визуально мой глаз, воспитанный на разглядывании кинокадров, поразился двум деталям автографа (см. с. 376):
• рисунок в конце наброска – лодка под высоким небом на спокойной воде – совсем не соответствовал предпоследнему стиху, который расшифровывали и печатали как «Сюда погода волновая»;
• окончание же этого стиха (слово, прочитанное как волновая) явно рифмовалось графически с последним словом следующего, заключительного стиха – «челнок».
Могу ныне признаться в случавшихся дисциплинарных нарушениях рабочего дня: иногда я приходил в Музей А. С. Пушкина и учился там разбирать почерк поэта по рукописям известных стихотворений. Меня отчасти оправдывает, что в застойные годы «наверху» решили, будто издается «слишком много Эйзенштейна», – его неопубликованные тексты можно было изредка печатать только в периодике или в академических сборниках.
Осенью 1977 года я рискнул выступить на конференции в Большом Болдине с сообщением о возможности несколько иначе, чем принято, читать и понимать загадочный отрывок, заново вынесенный Анной Ахматовой в поле внимания и изучения. Благожелательная реакция пушкинистов и публикация этюда в «Болдинских чтениях» поддержали мои текстологические опыты с автографами поэта. Не претендуя на смену профессии и оставаясь, как большинство россиян, читателем и почитателем Пушкина, я убеждался в том, что в его творениях все еще ждут нашего внимания неразгаданные тайны.
Мое глубокое уважение к текстологам-пушкинистам не поколеблено и по сей день, несмотря на множество вопросов и даже недоумений, накопившихся за почти полвека учебы у них. Благодаря их кропотливым трудам и вдохновенным прозрениям многослойное море пушкинских рукописей, включая трудночитаемые черновики, стало доступно читателю.
Сергей Михайлович Бонди изложил в книге «Новые страницы Пушкина» фундаментальный принцип текстологии:
«Задача исследователя – не успокоиться на буквальном воспроизведении „наброска“, но проникнуть в его смысл, вскрыть замысел. Это задача трудная, но необходимая.
Сейчас текстолог, даже прочтя все отдельные слова черновика, не может считать его вполне прочитанным, если он не понял смысла и значения в общей связи целого всех вариантов, всех слов и обрывков слов. Просто прочесть – мало, надо понять, истолковать прочитанное»[3 - Бонди С. М. Новые страницы Пушкина. Стихи, проза, письма. М.: Мир, 1931. С. 5.].
Случалось не раз, что интуиция ученого, вернувшегося к автографу давно известного и многажды изданного текста, преодолевала господствующее мнение, то есть привычную и потому кажущуюся бесспорной трактовку, и новое чтение текста давало возможность приблизиться к замыслу поэта. Рассеивалась тьма незнания, связанная с неразборчивостью букв и многократной авторской правкой – следствием невероятной вариативности пушкинской работы со словом. Или же высветлялась мгла полупонимания – результат не только инерции устарелого восприятия, но и, по определению Ахматовой, «головокружительной краткости» и не менее головокружительной емкости текстов Пушкина.
Наум Ихильевич Клейман
A / The Arts
Фильмы Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"» и «Иван Грозный», которым посвящены два первых раздела этой книги, вошли в сокровищницу мирового кино – о них написано множество книг и статей на разных языках. О романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» – его автор анализирует в третьей главе – существует целая библиотека исследований и комментариев. Киновед Наум Клейман работал над собранными в издании аналитическими этюдами на протяжении пяти десятилетий. Учась у предшествующих и современных исследователей, он в то же время старался обращаться напрямую к текстам классических произведений – не только к завершенным, но и к черновым вариантам, а также к окружающим их документам и свидетельствам. Внимательное, непредубежденное и доверительное отношение к самим классикам – вместе с нашим историческим опытом – может, по убеждению автора, обеспечить новое, иногда непривычное прочтение пророческих смыслов и эстетических открытий в, казалось бы, знакомых творениях
Наум Ихильевич Клейман
Этюды об Эйзенштейне и Пушкине
* * *
Все права защищены.
© Наум Клейман, текст, 2022
© Анастасия Орлова, дизайн-макет, 2022
© Фонд развития и поддержки искусства «Айрис» / IRIS Foundation, 2022
* * *
Редакция и автор благодарят Государственный музей А. С. Пушкина и Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) за помощь в воспроизведении автографов и эскизов.
…Наука самая занимательная
(Предисловие)
Читатель догадался, конечно, что в заглавии – вторая часть афоризма Пушкина: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». В «Арапе Петра Великого» афоризм встречается в рассказе о том, чему и как учился маленький Ибрагим Ганнибал: ему император разрешил присутствовать на своих совещаниях с приближенными. В обсуждениях дел и проблем государства будущий прадед поэта постигал возможность задавать вопросы и размышлять в поисках ответов.
Вне повести афоризм обрел множество толкований и употреблений. За ним стоит медленное, внимательное чтение с желанием глубже проникнуть в смысл написанного. О нем вспоминают, стремясь постичь логику развития идеи, концепции, замысла произведения. Успех повествования в биографическом жанре обеспечен, если оно не сводится к изложению жизненных фактов, а следует за мыслями незаурядной личности – позволяет читателю наблюдать рождение проектов и творений, постигать истоки и последствия деяний…
В искусствознании есть дисциплина, которая буквально соответствует пушкинскому афоризму. В филологии ее называют текстологией и кратко определяют как науку об истории текста. Эта история подразумевает становление замысла от идеи и первого наброска до завершения или прекращения работы, варианты прижизненных и посмертных публикаций и – шире – судьбу произведения в веках. Изучаются разные авторские редакции и изменения, цензурные и редакторские вмешательства (иногда при участии самого автора, чаще – против его воли), раны, нанесенные жестоким временем, и попытки залечить их.
Термин «текст» понимается широко и относится не только к словесности. В изобразительном искусстве этим термином определяют все визуальные проявления творчества – от первобытных петроглифов и античной скульптуры до видеоарта и инсталляций. Архитектура включает в свои «тексты» не только здания, но ансамбли строений, прилегающие парки, природные или городские ландшафты. Аналог текстологии в музыке распространяется на опусы композиторов и фольклор, на записи разных интерпретаций. В кино текстологический анализ обращен ко всем формам и этапам индивидуального и коллективного творчества: от литературных сценариев и режиссерских разработок, эскизов декораций и костюмов, операторских экспликаций и снятых кадров до разных вариантов целого фильма в его эстетических и технических параметрах…
Конечная цель текстологов – обеспечить читателю, слушателю, зрителю доступ к подлиннику: произведение должно восприниматься во всей полноте и точности авторского творения, без посторонних искажений. В результате изучения и разысканий становится возможным не только реставрировать произведение, залечивая повреждения от воздействия времени, но и реконструировать его, выявляя и устраняя искажения оригинала от вмешательств цензуры, от капризов заказчика либо от «помощи» доброжелателей, полагающих, что они лучше автора понимают запросы, потребности и вкусы публики.
Может показаться, что текстология – дисциплина сугубо прикладная, необходимая лишь для исправной публикации и качественной демонстрации произведений искусства. Меж тем она часто открывает прежде неведомые смыслы и обновляет восприятие, а иногда ведет к переоценке места и роли творений и самих творцов в истории культуры.
Известно много случаев непонимания новаторских идей современниками – неприятия ими творцов, обогнавших свою эпоху. Сколько судеб в искусстве было искалечено слепотой и глухотой профанов, предубежденностью экспертов и коллег! Сколько шедевров не было вовремя признано!
Но не менее опасен и пресловутый хрестоматийный глянец на признанной классике. Восхищение современников часто не исчерпывает авторского замысла, не передает смысловой полноты произведения. Застывая с годами в подобие аксиом, ранние оценки и характеристики начинают мешать непосредственному восприятию: мы видим не создание художника, а прижившуюся трактовку былого, пусть и весьма авторитетного интерпретатора.
Между тем со временем классика способна раскрываться по-новому. Она будто впитывает в себя опыт истории, и образные системы, некогда созданные мастерами, поворачиваются к нам сторонами, прежде не замеченными или не понятыми.
Конечно, не всегда это связано с радикальной переоценкой забытых на века гениев – осознанием их истинной значимости в культуре, как это случилось с Андреем Рублёвым и Уильямом Шекспиром, Доменико Теотокопули, по прозвищу Эль Греко, и Иоганном Себастьяном Бахом. Постоянно уточняется, расширяется, обогащается восприятие тех произведений, которые не забыты и даже изучаются в общеобразовательных школах.
Именно поэтому историкам и теоретикам искусства необходимо почтительно, но без догматизма относиться к толкованиям предшественников: надо ценить их прозрения и понимать обусловленность выводов контекстом эпохи, общим уровнем науки и субъективной установкой исследователя. Надо возвращаться к признанным творцам и творениям: непредубежденно обращаться к источникам и подготовительным материалам, к черновикам, к вариантам и разным редакциям, к признаниям самих авторов, свидетельствам их друзей и соратников. Заново изучая процесс воплощения замысла и его результат, можно разглядеть и понять проявленные историей смыслы.
Судьба подарила мне приобщение к текстологии еще во время учебы на киноведческом факультете ВГИКа. В 1958 году, через 10 лет после смерти С. М. Эйзенштейна, был снят запрет со второй серии «Ивана Грозного». Фильм вызвал ожесточенные споры. Даже благожелательные к режиссеру критики не могли поверить, что он осознанно пошел на обличение жестокой тирании: они утверждали, что крамолу невольно, вопреки замыслу мастера, породил его природный талант. Иных гуманитариев возмутили отступления от фактов истории. Некоторых кинематографистов раздражала «неправильная» с позиций экранного жизнеподобия форма: открытая условность в изображении и сюжетном действии, в характерах и обликах персонажей, в жестах и интонациях актеров. Стилистика казалась архаичной на фоне того узнаваемого «реализма» и субъективно окрашенной «лиричности», которые в период оттепели сменили демагогию и выспренность «культового» кино.
Меня фильм потряс эмоционально и поразил последовательно проведенным через все элементы зрелища преображением, которое не могло быть нечаянным. Почувствовав необходимость понять замысел картины, я выбрал «Грозного» для курсовой работы и попросил кафедру киноведения помочь с допуском в Центральный (ныне – Российский) государственный архив литературы и искусства, где хранился архив Эйзенштейна[1 - При ссылках на архивные материалы, хранящиеся в РГАЛИ, в личном архиве С. М. Эйзенштейна (ф. 1923), указывается номер описи, единицы хранения и листа.]. По правилам того времени, работа в ЦГАЛИ разрешалась аспирантам, иногда дипломникам, но не третьекурсникам.
– Почему бы тебе не пойти к Аташевой, вдове Сергея Михайловича? У нее еще много бумаг из его архива, – вдруг предложила Гита Соломоновна Авербух, заведующая Кабинетом истории советского кино. – Я позвоню Пере и представлю тебя.
Звонок оказался путевкой на всю жизнь. В первый визит к Пере Моисеевне на Гоголевский бульвар я увидел эскизы и заметки к «Ивану Грозному», лишь малая часть которых была тогда опубликована, и понял, что их изучение – дело на долгие годы. Ко второму приходу мне приготовили рукопись теоретической книги «Неравнодушная природа», над которой Сергей Михайлович работал, когда «Грозный» еще снимался. Курсовая работа естественно переросла в дипломную: я попытался на примере фильма и еще не изданной книги Эйзенштейна изложить теорию кинематографической полифонии, определявшей дух, строй и стиль «трагедии о Русском Ренессансе XVI века».
В 1961 году редколлегия будущего шеститомника трудов Эйзенштейна во главе с Сергеем Иосифовичем Юткевичем доверила мне публикацию во втором томе глав незавершенной книги «Монтаж» (1937). Затем вместе с Леонидом Козловым, выпускником филфака МГУ, пришедшим к Пере Моисеевне Аташевой на год раньше меня, мы начали подготовку текста «Неравнодушной природы» для третьего тома. С тех пор на протяжении шести десятилетий вместе с российскими и зарубежными коллегами я принимаю участие в обнародовании книг и статей, рисунков и документов из необъятного архива Эйзенштейна. Не только новые публикации меняют общую картину жизненного и творческого пути режиссера, теоретика, графика, педагога – многие его идеи, устремления, проекты стали иначе восприниматься в меняющейся панораме истории, в открывающихся контекстах и соотношениях культуры ХХ века, в связях с наследием прошлых веков и в утопических устремлениях к будущему.
В Отечественном отделе Госфильмофонда, где в том же 1961-м я начал работать после окончания института, одним из видов научной работы стало восстановление дореволюционных и ранних советских фильмов, полученных из фильмотеки ВГИКа, со студийных и прокатных складов страны. Многие ленты хранились некомплектными, в разных копиях недоставало разных кадров, сцен и целых частей, отсутствовали интертитры, пленка находилась в плачевном техническом состоянии. Зная мою причастность к редколлегии шеститомника, начальник отдела Константин Павлович Пиотровский поручил мне реконструкцию немых фильмов Эйзенштейна, начиная с самого знаменитого и, как выяснилось, самого искаженного – «Броненосец „Потёмкин“». Его негатив вернулся в СССР из Германии перемонтированным по требованиям тамошней цензуры, ни одной копии в авторском монтаже у нас не сохранилось.
Здесь не место описывать проблемы и сложности, с которыми мы тогда столкнулись, пытаясь вернуть в фильм все вырезанные кадры. На первых порах мы допускали ошибки и неточности из-за неразвитости кинотекстологии – от неосознанности нами ее принципов и законов. Только в канун 1975 года, когда фильму исполнялось 50 лет, Госкино и «Мосфильм» приняли предложение Комиссии по творческому наследству Эйзенштейна восстановить и выпустить в прокат озвученную музыкой версию «Броненосца». Нам удалось, наконец, выписать из зарубежных киноархивов хранившиеся там старые копии. Пополняя дубль-негатив почти всеми некогда утраченными кадрами, мы старались вернуть и авторский монтаж картины. Но кое-что исправить тогда не удалось. Лишь к 2005 году наш мюнхенский коллега Энно Паталас, обнаружив в Британии полную узкопленочную копию фильма, вставил последние пропавшие изображения, восстановил титры в подлинной графике, вернул эпиграф, дважды смененный цензурой.
Сравнивая монтаж в разных копиях фильма и стараясь понять, какая из них ближе к оригиналу, поневоле задаешься вопросом об авторском замысле. Еще в Госфильмофонде, потом на Мосфильме, я то и дело обнаруживал в «Потёмкине» мотивы и темы, которые не укладывались в прокрустово ложе утвердившихся трактовок его смысла и стиля. С момента премьеры в Большом театре нас уверяли, что «Броненосец» призывает к революции, воспевает ее и учит ей. Той же трактовкой, основанной просто на материале событий 1905 года, «подрывной» фильм был запрещен во многих государствах, либо цензура требовала смягчить его, вырезая и переклеивая кадры. Чем полнее при реконструкции оказывалось изображение, чем точнее выстраивался его монтажный порядок, тем яснее становилось, что фильм несет с экрана в жизнь совсем иную весть.
Ее, впрочем, сразу уловили наиболее проницательные зрители. Одним из них был виднейший кинокритик и сценарист Веймарской Германии Вилли Хаас. В рецензии на «Потёмкина», напечатанной журналом Film Kurier 30 апреля 1926 года, сразу после премьеры в Берлине, он утверждал:
«Строгое соблюдение единственного, вполне всеобщего, вполне общечеловеческого мотива; но не того, что понимают под „мотивом“ американцы, что опять-таки есть рассказ, фабула, а того вполне общечеловеческого побуждения, которое пронизывает плоть и кровь каждого человека, пусть даже самого темного. Это здесь присутствует. Оно называется: исполненное ненависти противодействие принуждению, братание в этом экстатическом бунте против серого, придавленного, скованного существования. Разве в этом есть что-то общее с коммунизмом? Навряд ли. Коммунизм – это дисциплина. Сущность этого побуждения можно с тем же успехом использовать и против коммунизма. Это наверняка не пропагандистский советский фильм, и если он был задуман как таковой, то как таковой не удался. Он сделан из той материи, из которой делается всякий мятеж. И каждый человек в какой-то складочке своего сердца – мятежник против принуждения. Поэтому каждый человек, без исключения, мог бы творчески участвовать в создании такого фильма»[2 - Хаас В. Броненосец «Потёмкин» / пер. С. Е. Шлапоберской // Киноведческие записки. М., 2002. № 59. С. 47–48.].
В 1975 году я не знал этой статьи. Но занятия текстом самого фильма – каждой монтажной склейкой, каждым кадром и любым движением в нем – подталкивали к аналогичным выводам. И когда журнал «Искусство кино» в канун полувекового юбилея пригласил меня написать о «Броненосце», я принес в редакцию, не очень надеясь на публикацию, текстологический этюд «Надо поднять голову». К моему изумлению, главный редактор журнала Евгений Данилович Сурков, обычно нещадно правивший статьи, внес единственную поправку – заменил название на «Только 15 кадров», – и этюд появился в 3-м номере за 1976 год.
Однако мысль о приблизительности текстологических правил и обычаев в кино не давала покоя. Это касалось не только реконструкции фильмов, но и издания теоретического, мемуарного, публицистического наследия. Произвол редакторов, публикаторов, составителей сборников часто был следствием не злой воли, а незрелости кинотекстологии как полноценной дисциплины. Нам мог помочь опыт наук о «старших» искусствах, в частности филологии. В науке о литературе самым развитым и авторитетным в России направлением была пушкинистика.
Сергей Михайлович Бонди, крупнейший авторитет в области пушкинской текстологии, вел семинар на филфаке МГУ. Робея попросить у него разрешения присутствовать на занятиях, я зайцем пробрался в старое здание университета на Моховой в надежде услышать рецепты текстологической премудрости. Профессор раскрыл томик Пушкина и два академических часа читал – почти без пояснений, лишь повторяя с разными интонациями некоторые слова или стихи, – вторую главу «Евгения Онегина». В заключение он произнес сентенцию, звучавшую примерно так: «Пушкина надо читать медленно и внимательно – и вы найдете у него то, что вам необходимо». После паузы, пожевав губами мысль, Бонди добавил: «И еще что-нибудь неожиданное!»
Это и был, как вскоре мне стало понятно, главный мудрый урок семинара по текстологии. Но меньше всего я мог тогда предположить, что сам буду время от времени посильно заниматься рукописями Пушкина.
В 1977 году вышла в свет книга Анны Андреевны Ахматовой «О Пушкине». В ней была напечатана статья «Пушкин и Невское взморье» с анализом отрывка «Когда порой воспоминанье…». В его тексте Анна Андреевна распознала приметы онегинской строфы, и это текстологическое наблюдение задело мое любопытство. В то время мой коллега и товарищ Александр Тархов работал над комментариями к «Евгению Онегину» для «Школьной библиотеки» издательства «Художественная литература». Он часто захаживал в Научно-мемориальный кабинет Эйзенштейна, где я работал, и мы обменивались мнениями о множестве загадок романа в стихах. В разговоре с Сашей возникла идея взглянуть на фотокопию автографа «таинственного отрывка», хранившуюся в литературном Музее А. С. Пушкина.
Черновая рукопись поэта показалась просто недоступной для прочтения, и я приравнял текстологов, расшифровавших ее, к волшебникам или по меньшей мере к великим криминалистам. Но визуально мой глаз, воспитанный на разглядывании кинокадров, поразился двум деталям автографа (см. с. 376):
• рисунок в конце наброска – лодка под высоким небом на спокойной воде – совсем не соответствовал предпоследнему стиху, который расшифровывали и печатали как «Сюда погода волновая»;
• окончание же этого стиха (слово, прочитанное как волновая) явно рифмовалось графически с последним словом следующего, заключительного стиха – «челнок».
Могу ныне признаться в случавшихся дисциплинарных нарушениях рабочего дня: иногда я приходил в Музей А. С. Пушкина и учился там разбирать почерк поэта по рукописям известных стихотворений. Меня отчасти оправдывает, что в застойные годы «наверху» решили, будто издается «слишком много Эйзенштейна», – его неопубликованные тексты можно было изредка печатать только в периодике или в академических сборниках.
Осенью 1977 года я рискнул выступить на конференции в Большом Болдине с сообщением о возможности несколько иначе, чем принято, читать и понимать загадочный отрывок, заново вынесенный Анной Ахматовой в поле внимания и изучения. Благожелательная реакция пушкинистов и публикация этюда в «Болдинских чтениях» поддержали мои текстологические опыты с автографами поэта. Не претендуя на смену профессии и оставаясь, как большинство россиян, читателем и почитателем Пушкина, я убеждался в том, что в его творениях все еще ждут нашего внимания неразгаданные тайны.
Мое глубокое уважение к текстологам-пушкинистам не поколеблено и по сей день, несмотря на множество вопросов и даже недоумений, накопившихся за почти полвека учебы у них. Благодаря их кропотливым трудам и вдохновенным прозрениям многослойное море пушкинских рукописей, включая трудночитаемые черновики, стало доступно читателю.
Сергей Михайлович Бонди изложил в книге «Новые страницы Пушкина» фундаментальный принцип текстологии:
«Задача исследователя – не успокоиться на буквальном воспроизведении „наброска“, но проникнуть в его смысл, вскрыть замысел. Это задача трудная, но необходимая.
Сейчас текстолог, даже прочтя все отдельные слова черновика, не может считать его вполне прочитанным, если он не понял смысла и значения в общей связи целого всех вариантов, всех слов и обрывков слов. Просто прочесть – мало, надо понять, истолковать прочитанное»[3 - Бонди С. М. Новые страницы Пушкина. Стихи, проза, письма. М.: Мир, 1931. С. 5.].
Случалось не раз, что интуиция ученого, вернувшегося к автографу давно известного и многажды изданного текста, преодолевала господствующее мнение, то есть привычную и потому кажущуюся бесспорной трактовку, и новое чтение текста давало возможность приблизиться к замыслу поэта. Рассеивалась тьма незнания, связанная с неразборчивостью букв и многократной авторской правкой – следствием невероятной вариативности пушкинской работы со словом. Или же высветлялась мгла полупонимания – результат не только инерции устарелого восприятия, но и, по определению Ахматовой, «головокружительной краткости» и не менее головокружительной емкости текстов Пушкина.