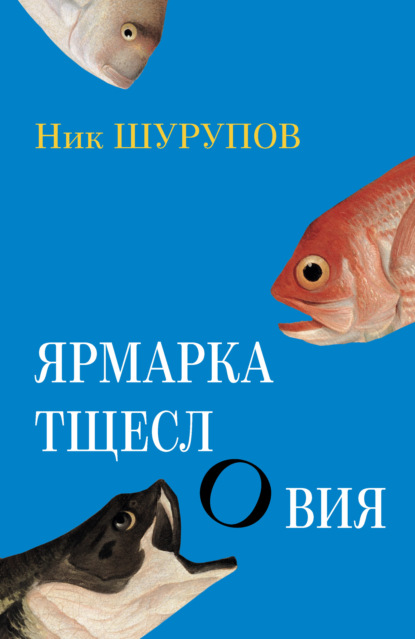По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ярмарка тщеслОвия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нэплохо, а? Мала ты ещё слэдишь за савэтской поэзией… Тут таварыш Хина Члэк обратилась к нам с пысьмом. Вот шьто, Лаврентий, разбэрись с этим вопросом, – Сталин набил табаком «Герцеговины Флор» потёртую трубку. – Всё-таки таварыш Маньяковский кое-что сдэлал для пабэды социализма в отдельно взятой стране. И заруби на своём носу: вдову, – тут вождь ухмыльнулся в прокуренные усы, – нэ трогать!
Хина торжествовала: такого ощутимого почтения от государства никакая Беатриче никогда не имела. Тем более в этой дикой стране, где вовек не водилось ни высокой моды, ни омаров, ни устриц. При жизни её имя, имя Хины Члек, стало всемирной легендой! Этого не снилось в России даже простодушной музе Пушкина – косоглазенькой Натали.
С годами, десятилетиями Хина, повинуясь какому-то непонятному ей самой влечению, пристрастилась заплетать свои ярко-рыжие волосы кокетливой девической косичкой. И снова к ней слетались, как мотыльки на огонь, её обожатели: кресло-каталку, где она восседала богиней страсти в ярком макияже, сопровождали восторженной толпой самые изысканные парижские и московские геи и примкнувший к этой компании поэт-авангардист Эжен Вознесенко. Обычно они отправлялись всей разноцветной толпой на бывшую Триумфальную площадь, носящую имя Маньяковского. Там на высоком постаменте стоял её бронзовый Будик, в позе горлана-главаря и поэта-трибуна. В той самой позе, в которой он любил ей читать свои новые стихи.
– Хина, несравненная, дорогая, – перебивая друг дружку, сладко щебетали геи, – как вы находите этот монумент, нравится ли вам?
Хина Члек досадливо морщилась:
– Фи, мятые брюки! В таком виде на публику? Да никогда! Мои домработницы умели наводить стрелку!
На минуту она умолкала, борясь с раздражением. Вообще-то, думала Хина, здесь, на постаменте, по справедливости, должны были бы находиться они втроём – всей своей знаменитой семьёй. Ведь кем стал бы Маньяковский без них?.. Итак, по правую руку Йосик, по левую Щеник, а в середине, в резном старинном кресле, она сама – их вечнозелёная рыжая Муза.
Селфи с огоньком
Не могу умолчать.
Как же, для истории!
Не моей, конечно, которая никому не известна, да и не нужна. А той, что вошла в легенду, будто к себе домой, пожаловала в её изукрашенный дворец с парадного входа, по-хозяйски, вразвалочку. Вкусно дыша исходящим малиновым паром – убедительным и убеждающим признаком заслуженного и неоспоримого успеха.
Некоторые сограждане усматривают в этом процессе признаки самодовольства. Ну, так и что ж? Напрасно кое-кто у нас порой считает сомнительным это парящее состояние млеющей души. Нет и ещё раз нет. Оно судьбоносно и даётся только избранникам славы, что ступили на землю, дабы исполнить своё предназначение.
Итак, земля, так сказать, почва. Представьте комфортное дачное Подмосковье в виде Переделкина, экологически чистое утро, вечнозелёные сосны, свежий пуховый снежок. И вот стоят они там позируют, на убранной дворником дорожке. Собрались этакой мушкетёрской компанией – оживлённые, с улыбочками, в распахнутых дублёнках. Потрёпанные ветром времени мушкетёры, в знатной своей силе, хотя и несколько пенсионного возраста. Все они красавцы, все они таланты, все они поэты. На фоне вечности снимается семейство. Дружное, нет ли, большой вопрос, но в чём-то неизгладимо солидарное. И по осанке понятно: нас мало, нас, может быть, четверо, но всё-таки нас большинство. (Кто-то из них же так убеждённо и победительно определил, кто – я запамятовал, да и не важно: любой мог. Впрочем, состав этой прославленной четвёрки под некоторым вопросом и по-разному толкуется, но понятно: она целиком – из шестидесятников.)
Называть их даже как-то лишне, до того все знамениты и узнаваемы по бесчисленным печатным клише и мельканию в телеящике. Хотя если кому невдомёк – извольте.
Разумеется, в серёдке, в цветастом демократическом образе всепланетного рубахи-парня, длинно-изгибистый, голова вскинута, губы жёсткой полоской, с белёсыми до прозрачности очами то ли пророка, то ли фюрера, Андрэ Явнушенский, он же Явнух. Миссионер собственной творческой личности, посетивший того ради, по собственным подсчётам, больше стран, чем их насчитала ООН, и от каждого путешествия оставивший памятный лейбл на чемодане, отчего тот оказался обклеен в три слоя.
В соседстве с Андрэ, похожий на двустворчатый шкаф или же на троллейбус торчмя, с выпученными глазами и бородавками на челе, Робертино Известинский – вдохновенный служитель текущего агитпропа, по корпоративному прозвищу «советский Явнушенский».
Оба они верные, а то и неверные продолжатели дела горлана-главаря Будимира Маньяковского, не однажды, под сенью бронзового кумира, выкрикивавшие свою в меру эпатажную, наспех зарифмованную публицистику газетного толка в гущу охочей до зрелищ московской толпы.
Сбоку, задрав голову, благожелательно блуждает поросячьими глазками пухлощёкий губошлёп Эжен Вознесенко, общепризнанный технарями и научной интеллигенцией гений, розовый от самодовольства конструктор стихотворных кубиков Рубика и рубиков Кубика. И он тоже акселерат-отросток дремучего маньяковского пнища, куда как пуще сотоварищей впитавший все его богохульные соки, недаром был отмечен и приближен самой Хиной Члек: официальная муза поэта-трибуна кого попало к Своему Ведьмичеству не подпускала.
Ну и наконец с другого боку скромно переминается, темнея мятыми усами, штатный любимец интеллектуалов первого поколения бард Тимур Чурчхелава, сочинитель карамельных многозначительных песенок, которые сам же и напевает под гитару надтреснутым тенорком. Не Вертинский, конечно, но хрущёвской оттепели сгодился в самый раз, ибо, если не броской формой, то содержанием, остался верен революционной романтике. Кто не помнит его вышибающей слезу лирической клятвы о воображаемой гибели на той единственной Гражданской: «И комиссары в пыльных кипах склонятся молча надо мной…»
Что и говорить, имена!
А сами они собой – такие по-домашнему родные и близкие. У каждого здесь, в обихоженном лесопарке со всеми коммунальными удобствами, просторная дача для создания нетленки и продуктивного отдыха. Затихнет пишмашинка – дятла слыхать. Звонкая деревянная дробь эхом рассыпается меж янтарных стволов: не спи, не спи, художник!.. Дятлы, они тоже служат искусству, хотя ещё недопонимают это.
Спросите, а где же их общая муза и подруга дней суровых? Где она, изысканная Геллочка, в непременной изящной шубке и замшевых, до колен сапожках? Почему её нет рядом в этот исторический миг запечатления?
Ну кто же знает. Может быть – не хотелось бы об этом думать – тут какая-то гендерная прихоть организаторов? Или, скорее всего, рассеянная соратница просто забыла о встрече, а то и вовсе не проявила благорасположения. Женское сердце – вечная загадка, особенно если оно неутомимо девичье. Но и отсутствуя – несравненная в жеманности и грациозности стиля Гелла Рахматуллина, как бы в одном флаконе Ахматова и Цветаева новомодного разлива, всё равно вместе с друзьями, и её дух незримо витает в воздухе, сообщая братьям по рифме обворожительный аромат соучастия в торжестве.
Да, чуть не забыл. Надо же сказать о мероприятии, вернее, акции. Это парадный снимок на обложку популярнейшего журнала, с его чрезвычайно взвинченным по случаю бурной перестроечной политики тиражом. Под названием… здесь в мою память невольно вливается тягучим мёдом сладчайший голос незабвенного короля песни Рашида Бейбутова:
– А-га-нё-о-о-к, а-га-нё-о-о-к! Ты свэ-ти, свэ-ти мне в пути!.. Счастье ты па-а-а-мог мне-э найти!..
М-м-м-да, нет теперь таких голосов. Как справедливо заметил один торговец на пышном московском восточном рынке – а ныне все рынки восточные – про свой киш-миш: «Са-а-а-п-сэм сладкий, слюшай!.. Сапсэм!»
Попасть в самый горячий исторический момент на обложку «Огонька» – понятно, вершина творческой карьеры. Триумф! Апофеоз!
Гласность, перестройка, демократия, наконец социализм с человеческим лицом Михал-Сергеича (пускай оно помечено во лбу обширным пятном – но ведь зато в контурах свободолюбивой Африки), – разве не за это все они боролись?!
И так ли безучастны к событию лики наших героев, как это может показаться невнимательному взору?
А вы прочувствуйте, вглядитесь.
Вот же, вот!
Сквозь бледные демисезонные черты румянцем проступает чувство глубокого удовлетворения. То самое, о котором в своё время так много и проникновенно говорил наш дорогой Леонид Ильич.
Ох, и глубоко же это удовлетворение!
По земным меркам – с Марианскую впадину, не иначе.
* * *
Каждого из этих многошумных кумиров мне по случаю довелось видеть, о чём я и хочу оставить свой, так сказать, мемуар. Ведь любая, даже пустячная чёрточка к их далеко ещё не дорисованным портретам, несомненно, дорога для истории. Голосует сердце – вспомнить я обязан…
Мимолётное очное знакомство, конечно, предварялось достаточно долгим заочным, и тут, что поделаешь, не обойтись без упоминания о некоторых моих личных обстоятельствах, хотя отдаю себе отчёт, насколько все они незначительны и, быть может, порой неуместны в сравнении с предметом разговора.
И чудится мне тёплый, ранней осени вечер, пахнущий палой листвой и дымом костров, сутулые особнячки близ нашей школы, где мы с приятелем Костей условились встретиться с двумя девочками из соседнего класса, Соней и Лидой. И вот мы чинно идём по пустынной улице вчетвером, сами не зная куда. Гуляем. Черноглазая Соня – болтушка, что-то трещит, а Лида хранит молчание, словно бы погружённая в свою красоту. Она действительно на редкость хороша собой, только взглянешь – и наплывает волнующий туманец, потому я стараюсь лишний раз не смотреть на неё, дабы не потерять голову.
Как идти нам некуда, так и говорить в общем-то не о чем, – без слов идёт неслышимый разговор смятенных, бестолковых чувств. Впрочем, определённо пока ощущается лишь немая зацикленность Кости на Лиде, мои мысли в беспорядке, а что у девушек на уме – и вовсе не поймёшь.
Совершенно случайно хаотичная наша беседа вдруг заходит о книгах, о литературе, которую мы называем, как в школьном дневнике: лит-ра. Я-то хожу в библиотеку, читаю – больше приключенческое или о войне, хотя про то никому не говорю, а у Кости дома ни одной книги, не любитель. В его квартире, куда я однажды зашёл, едким колом стоит нежилой дух, отец в разъездах, где-то шоферит, матери не видать. Сам же он, по тёмным намёкам, водится с какими-то полублатными или уголовными личностями и нахватался от них романтики зоны и матерных, явно лагерного происхождения «басен Крылова». Однажды Костя прочитал их мне лениво и равнодушно, как нечто обыденное, – и было противно слушать эту похабень. Впрочем, теперь понимаю, что во всём этом грязном насмешничестве сочинителей с нар, кроме природного ёрничества, была ещё и немалая доза общенародной классовой ненависти учеников к школьной программе…
И вот вдруг слышу от одной из девчонок, чуть ли не от самой Лиды, обращённое к нам:
– А вы знаете таких молодых поэтов…
И тут впервые для меня звучат имена, что вот-вот станут столь громкими на всю страну. Фамилии мне послышались и запомнились так: Евнушенко и Чуршалава.
Разумеется, ни я, ни тем более Костя про этих поэтов и слыхом не слыхивали. А вопрос-то был на засыпку. И прозвучал с такой высокомерной важностью, с таким чувством приобщённости к чему-то актуальному, что я покраснел от стыда. Вспомнилось, как однажды пришлось заливаться краской на уроке в классе, когда физик громогласно уличил меня в грубой орфографической ошибке (я написал «инжинер») и принялся высмеивать. Видно, это доставляло ему радость – и от того, что подловил, и от того, что сам так безукоризненно грамотен. С иностранными словами, воспринимаемыми со слуху, у меня и прежде случались казусы, порой забавные; так, в детстве я долго не мог запомнить, как правильно: «туалет» или же «таулет»? Оно и понятно: чужое корнесловие, при незнании языков (а откуда бы оно взялось?), заставляет разве что гадать. Однако попасть впросак перед ровесницей было куда как позорней.
Расспросил маму – она ответила: есть в Москве такой Явнушенский, поэт хороший, ещё молод, но уже весьма известен. А вот про другого не слышала.
В читальном зале я принялся листать литературные журналы, к ним прежде не притрагивался, и быстро отыскал обоих. Первый был белобрыс, востронос, вроде Буратино, и залихватского вида; второй постарше, при усах щёткой, как у Ворошилова, заметно лысоват и с печальным взглядом хронического лирика. Стихи?.. но что я тогда в них понимал! В старших классах нас в основном пичкали Маньяковским, с его плакатным оптимизмом, да Максимом Горьким, которого полагалось ещё и заучивать, – и потом кто-нибудь у доски, под смешки одноклассников, завывал с приторным пафосом про гордого буревестника и глупого пингвина, что робко прячет тело жирное в утёсах. Явнушенский же и Чурчхелава (а не Чуршалава) писали совсем иное, приземлённое, почти что житейское, хотя и за ними вязалась, как тень, поэтическая выспренность. Словом, отныне, задай мне тот вопрос, я мог бы что-нибудь ответить заносчивым девочкам, – однако свиданий больше не повторялось.
Всё это произошло в самом начале шестидесятых годов. Термин шестидесятники, знак поколения, взошедшего на дрожжах политической оттепели, – тогда ещё не появился. Впоследствии Явнух, самозванный его знаменосец, без ложной скромности, совершенно ему не присущей (впрочем, как и неложной), не дожидаясь милостей от историков литературы, заявил:
И голосом сорвавшимся моим
сорвавшееся время закричало! —
и далее в том же духе. Дескать, не разобрать, что же было сначала – его пророческие крики или же новая историческая эпоха? Хотя кто бы сомневался, только никак не он. Ведь на неразрешимый вопрос, что появилось раньше – яйцо или курица, ответ, надо полагать, один: петух.