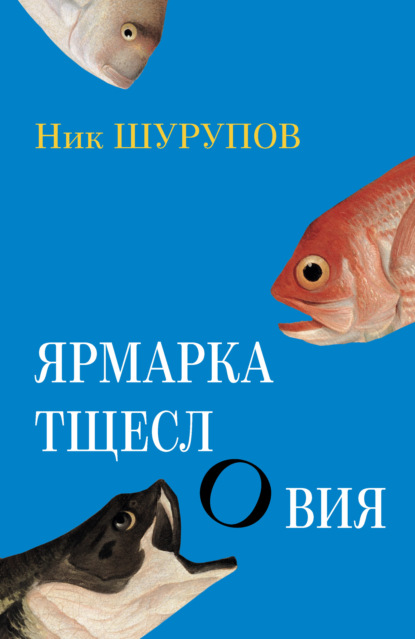По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ярмарка тщеслОвия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мемуарными усилиями самих шестидесятников нынче утвердилось, каким великим благом для народа и страны была их кипучая и могучая деятельность. Однако случались и поперечные мнения. К примеру, в одной новой русской сказке про «гавриила харитоновича попова и собчака» недавно мелькнуло: «Так через некоторое время они благополучно дошли до Пушкинской площади, где мы их и теряем в толпе блядей, сутенёров и шестидесятников». Синонимический ряд, хотя сомнительного толка.
Впрочем, вернёмся к прерванному рассказу.
Вскоре я поменял школу, а по её окончании у меня появился долгожданный магнитофон. А затем и бобина с записями песенок Тимура Чурчхелавы, уж неизвестно какими путями попавшая в наш весьма далёкий от Москвы город – с дореволюционных времён апробированное место политических ссылок. Были эти песни какими-то однотонными, колеблющимися, туманными, зыбкими – ненадёжными, что ли. Как по напеву, так и по содержанию. Словом, не походили они на пышущие бодростью и оптимизмом эстрадные шлягеры, что звучали по радио. Должно быть, это и притягивало слушателей – как некая, прежде скрываемая реальность.
До того лишь раз я слышал нечто подобное – когда на пару дней в руки попала старая послевоенная грампластинка Вертинского. Томный картавый голос подчёркнуто театрально и выразительно пел о трагедии маленькой балеринки, про матросов, приплывших на остров, где растёт голубой тюльпан, – картинки из другой жизни, лишь чувства те же. И мне нравился своей изящной раскрепощённостью куплет:
А я пью горькое пиво,
улыбаюсь глубиной души.
Так редко поют красиво
в нашей земной глуши.
Это было нечто – горькое пиво и улыбка глубиной души сквозь безнадёжную грусть.
Переписав плёнку на свой магнитофон, я вернул её владельцу – соседу по дому. Этот парень был старше меня, учился в институте, который вроде бы собирался бросать, потому что увлёкся стихами. Он поведал мне про недавнюю поездку в столицу, там ему удалось отыскать своего кумира, барда Тимура Чурчхелаву. Где-то раздобыл адрес и заявился к нему без приглашения прямо домой. Сунул тому в руки тетрадку своих стихов.
Хозяин квартиры был хмур, молчалив и явно с бодуна. Тетрадь отложил в сторону, переспросил:
– Так откуда ты, говоришь, приехал?..
Расслышав, из какого города, поинтересовался:
– А троллейбусы там есть?
– Есть, – недоумённо ответил гость.
И вдруг услышал:
– Ну, значит, действительно город…
И дались им эти троллейбусы, думал я, слушая своего приятеля, которому больше и вспомнить-то было нечего.
Накануне только я прочёл в «Юности», так сказать, любовную лирику Робертино Известинского: «За тобой через года иду, не колеблясь: если ты – провода, я – троллейбус». И Чурчхелава про то же – как он садится на ходу в синий троллейбус и там-де уходит от душевной беды. А всё дело в пассажирах: «Я к ним прикасался плечами… как много, представьте себе, доброты в молчанье, молчанье…»
Да уж, в часы пик и вообще хошь не хошь – прикоснёшься плечами…
Песенка вроде бы нормальная, однако не без ложки патоки.
Мне казалось, такие неуклюжие слова, как троллейбус и пассажиры, по своей несуразности для стихов не годились. Вот у Пушкина, например, их нет, – правда, тогда и электротранспорта на улицах не было. Подсознательно я понимал, что романтизированные новинки поэтического словаря походили на дешёвые побрякушки, будто пластмассовые клипсы на месте бриллиантов. А фамильярное обращение «представьте себе» раздражало своей вкрадчивой, доверительной фальшью.
Риторика в лирике всегда враньё, а пошлость – она и есть пошлость, каким бы искренним тоном ни прикрывалась.
Спустя много лет на старом Арбате встретилось мне продолговатое сооружение, похожее на раздутый баклажан на колёсах. Кафе «Синий троллейбус», замануха для понимающих и ностальгирующих туристов. Из окошек несло сивым пивным духом и табаком, и пассажиры уже отнюдь не молчали. Вот куда притопали былые романтики оттепели – на рынок, где торгуют всем, что только можно впарить клиенту.
А потом я увидел и другой настоящий троллейбус, помятый, искорёженный, – в палисаднике музея на Тверской. Это был как бы исторический экспонат событий августа 1991 года: якобы этим троллейбусом перегораживали дорогу на пути танков. Знак победы демократов над ретроградами-путчистами несколько лет пылился под городским небом, а потом исчез в неизвестном направлении. Скорее всего – угодил на свалку.
Попсовая пошлость с годами лишь загустевает…
* * *
Из ватаги шестидесятников больше всех литературного и общественного шума производил неимоверно продуктивный и авантюрный Явнух. Он искренне любил себя самого, отвечая себе же полной взаимностью. Даже в порывах самокритичности поэт любовался собой, своей способностью видеть собственные недостатки, которые, разумеется, были продолжением достоинств.
Понятно, по большей части он и описывал самого себя, а будучи человеком поверхностным – сосредоточивался на внешнем, на различного рода блёстках. Всё это, как конфетти из новогодних хлопушек, сыпалось на читателя, а многочисленные пародии на чересчур блескучего автора добавляли пикантные детали.
Так, я ненароком узнал, что Явнух на своих вечерах попеременно является публике с головой, покрашенной то в один, то в другой цвет. Поначалу не мог понять, зачем ему всё это? Вряд ли дело было лишь в банальном эпатаже. Наконец до меня дошло: если хамелеон вынужденно меняет окраску, чтобы слиться с природной средой и стать незаметным, Явнушенский перекрашивал волосы синим, розовым или зелёным, дабы ни за что на свете не остаться незамеченным. Правда, стихотворца порой – и, пожалуй, справедливо – обвиняли в идейном хамелеонстве, но это как две стороны медали.
Соответственно, разноцветными были и его наряды, начиная от сорочек и кончая пальто и кепками. По принципу: вот вы, все вокруг, серые, как в творчестве, так и в одежде, – а я!.. Может быть, и в выборе нижнего белья он был столь же «разнообразным и целе- и нецелесообразным»? На это анекдотическое предположение натолкнул один случай, произошедший непосредственно в нашем городе, куда неутомимый Андрэ заявился с поэтическими гастролями.
Прибыв к нам под вечер, – а цвело и пахло благоуханное лето, – поэт решил поужинать. Быстро переоделся и направился в лучший ресторан. И тут же, у входа был оперативно остановлен бдительным милицейским патрулём и доставлен в отделение. Мгновенно, по телефонному звонку, туда прибыла группа поддержки и стала разбираться с группой захвата.
– Какое право вы имели незаконно задерживать абсолютно трезвого человека, известного на всю страну писателя и к тому же гостя нашего города?! – возмущались адвокаты.
– А чего же он разгуливает по улицам в непристойном виде и нарушает правопорядок? – отвечали менты.
– В каком таком непристойном виде?
– В пижаме!
– Как так – в пижаме?
– Появляться в нижнем белье в общественном месте не положено!
– Ошибаетесь, товарищи, – смиренно подал голос Андрэ Явнушенский. – Это отнюдь не пижама, а коллекционный костюм от Версуччи. Недавно по случаю купил в Италии.
– Чего-чего? – упорствовали милиционеры, тараща глаза на его белоснежный наряд в широкую цветастую полоску. – Попросим не выражаться! Мы тут при исполнении.
Наконец с большим трудом бдительных стражей удалось убедить, что поэт всё-таки явился в ресторан не в пижаме и, стало быть, вовсе не нарушал общественной благопристойности. Явнуха отпустили с миром, но поставили условие – переодеться, если он намерен переступить порог заведения общепита.
– Ох, и тёмный же ещё у нас народ! – вздыхал сочинитель с присущей ему мировой скорбью в голосе. – Пишешь-пишешь… для них же… и что в ответ? – он закатил печальные глаза к небу.
Ночные звёзды благожелательно помигивали разноцветными, как пижама, огоньками – но молчали.
Поэтические поездки по Союзу были для Явнушенского чем-то вроде вынужденных отработок по месту жительства за постоянные прегрешения морально-идеологического характера, а так он не вылезал из разномастных зарубежных вояжей. «То ли в опале, то ли в Непале», – писал он о себе, сетуя на свою неодолимую бунтарскую страсть, которая ему самому не даёт покоя.
Впечатлительному поэту казалось, что он подвергается нешуточным гонениям со стороны жестоковыйной власти. И если бы не мировая известность, не авторитет прогрессивной общественности, всегда готовой вступиться за гонимого, то… Но всё обходилось. Бывало, зарубежный тур отсрочат или очередную книгу стихов задержат на пару месяцев, а он уже снова чувствует гнёт опалы и ожидает чуть ли не ареста. Впрочем, грешил Явнух перед строгой властью не сказать, чтобы сильно. Ну, по прыткости забежит чуток вперёд медленно пыхтящего идеологического паровоза, или же сочинителя не в ту сторону занесёт. Товарищи из ЦК тут же поправят, возьмут в оборот, пожурят устно или через газету, а потом, чтобы не сильно страдал, сунут покаявшемуся проказнику глазированный пряник.
И вот он снова летит куда-нибудь в Латинскую Америку и шлёт оттуда стихи про очередную революцию. И себя, конечно, при этом не забудет: расскажет, как героически стыл ночью под мостом с некоей черноглазой никарагуаночкой, дожидаясь народного восстания, и она шептала ему на ухо: «Какой ты нетерпеливый, Явнухенио!» И нет для него ничего ближе и дороже, чем счастье и свобода братьев по разуму на таких беспокойных материках. Недаром, собрав свои зарубежные стихи в отдельную книгу, Андрэ назвал её «Интимная лирика».
Далеко не сразу я понял, что сама регулярность его поездок за границу и бесчисленные зарифмованные отчёты о них говорят лишь об одном: Явнух, как и его учитель Будимир Маньяковский, служил бойцом незримого коминтерна и заодно являл собой модель советского поэта, отстаивающего свободу идейно правильного слова. Взамен дома, на родине, ему позволялось некоторое вольномыслие и полемический задор, а власть между делом лишний раз демонстрировала миру свою демократичность и широту взглядов.
Примерно те же функции в культурной политике импортного и экспортного назначения выполнял и Эжен Вознесенко. С небольшой разницей в творчестве: если Явнушенский тяготел к традиции, то его коллега и соперник – к авангарду.
Явнух тоже был не чужд новаторства и бахвалился тем, что создал свою, явнушенскую рифму. Хотя ничего нового он не придумал: неполные, ассонансные созвучия давным-давно были присущи русской народной поэзии, затем, с начала XX века, вошли в арсенал поэтов-профессионалов. Единственным его новшеством было неумеренное и неряшливо-разухабистое применение ассонансной рифмы, отчего стихи порой походили на хлебное поле, буйно заросшее сорняками. Ему ничего не стоило рифмовать «Скрябина» со «скрягою», любуясь нелепым скрежетом согласных и не обращая внимания на смысл – то бишь на то, как грех скупости тенью марает не повинного в этом композитора.
Эжен Вознесенко пошёл своим путём, ему хотелось, чтобы на хлебном поле стиха были асфальт, стекло и железобетон. То бишь конструкции. Так современней, считал он. Зачем рубить избу, собирать по брёвнышку, тесать дерево, ладить кровлю, изукрашивать наличники, вырезать затейливого конька на крыше, когда есть подъёмный кран, опалубка, железобетонные блоки. Раз-два – и готов микрорайон, с квартирами а-ля Корбюзье!
Этот великий француз первым открыл миру, что городскому человеку, как функции производства, вполне достаточно для существования тесного жилища под низким потолком, до которого, не вставая на цыпочки, можно дотянуться рукой. Пришёл с работы, поел, ложись спать, а утром по гудку снова на смену. Функция должна быть функциональной, как сказал бы незабвенный Леонид Ильич (чего, однако, он не говорил).
Знаменитость притягательней магнита. Архитектор по образованию, Эжен, попав в Париж, первым делом направился в мастерскую гениального маэстро, а чуть позже описал для публики эту историческую встречу, о которой так долго мечтал.
Впрочем, вернёмся к прерванному рассказу.
Вскоре я поменял школу, а по её окончании у меня появился долгожданный магнитофон. А затем и бобина с записями песенок Тимура Чурчхелавы, уж неизвестно какими путями попавшая в наш весьма далёкий от Москвы город – с дореволюционных времён апробированное место политических ссылок. Были эти песни какими-то однотонными, колеблющимися, туманными, зыбкими – ненадёжными, что ли. Как по напеву, так и по содержанию. Словом, не походили они на пышущие бодростью и оптимизмом эстрадные шлягеры, что звучали по радио. Должно быть, это и притягивало слушателей – как некая, прежде скрываемая реальность.
До того лишь раз я слышал нечто подобное – когда на пару дней в руки попала старая послевоенная грампластинка Вертинского. Томный картавый голос подчёркнуто театрально и выразительно пел о трагедии маленькой балеринки, про матросов, приплывших на остров, где растёт голубой тюльпан, – картинки из другой жизни, лишь чувства те же. И мне нравился своей изящной раскрепощённостью куплет:
А я пью горькое пиво,
улыбаюсь глубиной души.
Так редко поют красиво
в нашей земной глуши.
Это было нечто – горькое пиво и улыбка глубиной души сквозь безнадёжную грусть.
Переписав плёнку на свой магнитофон, я вернул её владельцу – соседу по дому. Этот парень был старше меня, учился в институте, который вроде бы собирался бросать, потому что увлёкся стихами. Он поведал мне про недавнюю поездку в столицу, там ему удалось отыскать своего кумира, барда Тимура Чурчхелаву. Где-то раздобыл адрес и заявился к нему без приглашения прямо домой. Сунул тому в руки тетрадку своих стихов.
Хозяин квартиры был хмур, молчалив и явно с бодуна. Тетрадь отложил в сторону, переспросил:
– Так откуда ты, говоришь, приехал?..
Расслышав, из какого города, поинтересовался:
– А троллейбусы там есть?
– Есть, – недоумённо ответил гость.
И вдруг услышал:
– Ну, значит, действительно город…
И дались им эти троллейбусы, думал я, слушая своего приятеля, которому больше и вспомнить-то было нечего.
Накануне только я прочёл в «Юности», так сказать, любовную лирику Робертино Известинского: «За тобой через года иду, не колеблясь: если ты – провода, я – троллейбус». И Чурчхелава про то же – как он садится на ходу в синий троллейбус и там-де уходит от душевной беды. А всё дело в пассажирах: «Я к ним прикасался плечами… как много, представьте себе, доброты в молчанье, молчанье…»
Да уж, в часы пик и вообще хошь не хошь – прикоснёшься плечами…
Песенка вроде бы нормальная, однако не без ложки патоки.
Мне казалось, такие неуклюжие слова, как троллейбус и пассажиры, по своей несуразности для стихов не годились. Вот у Пушкина, например, их нет, – правда, тогда и электротранспорта на улицах не было. Подсознательно я понимал, что романтизированные новинки поэтического словаря походили на дешёвые побрякушки, будто пластмассовые клипсы на месте бриллиантов. А фамильярное обращение «представьте себе» раздражало своей вкрадчивой, доверительной фальшью.
Риторика в лирике всегда враньё, а пошлость – она и есть пошлость, каким бы искренним тоном ни прикрывалась.
Спустя много лет на старом Арбате встретилось мне продолговатое сооружение, похожее на раздутый баклажан на колёсах. Кафе «Синий троллейбус», замануха для понимающих и ностальгирующих туристов. Из окошек несло сивым пивным духом и табаком, и пассажиры уже отнюдь не молчали. Вот куда притопали былые романтики оттепели – на рынок, где торгуют всем, что только можно впарить клиенту.
А потом я увидел и другой настоящий троллейбус, помятый, искорёженный, – в палисаднике музея на Тверской. Это был как бы исторический экспонат событий августа 1991 года: якобы этим троллейбусом перегораживали дорогу на пути танков. Знак победы демократов над ретроградами-путчистами несколько лет пылился под городским небом, а потом исчез в неизвестном направлении. Скорее всего – угодил на свалку.
Попсовая пошлость с годами лишь загустевает…
* * *
Из ватаги шестидесятников больше всех литературного и общественного шума производил неимоверно продуктивный и авантюрный Явнух. Он искренне любил себя самого, отвечая себе же полной взаимностью. Даже в порывах самокритичности поэт любовался собой, своей способностью видеть собственные недостатки, которые, разумеется, были продолжением достоинств.
Понятно, по большей части он и описывал самого себя, а будучи человеком поверхностным – сосредоточивался на внешнем, на различного рода блёстках. Всё это, как конфетти из новогодних хлопушек, сыпалось на читателя, а многочисленные пародии на чересчур блескучего автора добавляли пикантные детали.
Так, я ненароком узнал, что Явнух на своих вечерах попеременно является публике с головой, покрашенной то в один, то в другой цвет. Поначалу не мог понять, зачем ему всё это? Вряд ли дело было лишь в банальном эпатаже. Наконец до меня дошло: если хамелеон вынужденно меняет окраску, чтобы слиться с природной средой и стать незаметным, Явнушенский перекрашивал волосы синим, розовым или зелёным, дабы ни за что на свете не остаться незамеченным. Правда, стихотворца порой – и, пожалуй, справедливо – обвиняли в идейном хамелеонстве, но это как две стороны медали.
Соответственно, разноцветными были и его наряды, начиная от сорочек и кончая пальто и кепками. По принципу: вот вы, все вокруг, серые, как в творчестве, так и в одежде, – а я!.. Может быть, и в выборе нижнего белья он был столь же «разнообразным и целе- и нецелесообразным»? На это анекдотическое предположение натолкнул один случай, произошедший непосредственно в нашем городе, куда неутомимый Андрэ заявился с поэтическими гастролями.
Прибыв к нам под вечер, – а цвело и пахло благоуханное лето, – поэт решил поужинать. Быстро переоделся и направился в лучший ресторан. И тут же, у входа был оперативно остановлен бдительным милицейским патрулём и доставлен в отделение. Мгновенно, по телефонному звонку, туда прибыла группа поддержки и стала разбираться с группой захвата.
– Какое право вы имели незаконно задерживать абсолютно трезвого человека, известного на всю страну писателя и к тому же гостя нашего города?! – возмущались адвокаты.
– А чего же он разгуливает по улицам в непристойном виде и нарушает правопорядок? – отвечали менты.
– В каком таком непристойном виде?
– В пижаме!
– Как так – в пижаме?
– Появляться в нижнем белье в общественном месте не положено!
– Ошибаетесь, товарищи, – смиренно подал голос Андрэ Явнушенский. – Это отнюдь не пижама, а коллекционный костюм от Версуччи. Недавно по случаю купил в Италии.
– Чего-чего? – упорствовали милиционеры, тараща глаза на его белоснежный наряд в широкую цветастую полоску. – Попросим не выражаться! Мы тут при исполнении.
Наконец с большим трудом бдительных стражей удалось убедить, что поэт всё-таки явился в ресторан не в пижаме и, стало быть, вовсе не нарушал общественной благопристойности. Явнуха отпустили с миром, но поставили условие – переодеться, если он намерен переступить порог заведения общепита.
– Ох, и тёмный же ещё у нас народ! – вздыхал сочинитель с присущей ему мировой скорбью в голосе. – Пишешь-пишешь… для них же… и что в ответ? – он закатил печальные глаза к небу.
Ночные звёзды благожелательно помигивали разноцветными, как пижама, огоньками – но молчали.
Поэтические поездки по Союзу были для Явнушенского чем-то вроде вынужденных отработок по месту жительства за постоянные прегрешения морально-идеологического характера, а так он не вылезал из разномастных зарубежных вояжей. «То ли в опале, то ли в Непале», – писал он о себе, сетуя на свою неодолимую бунтарскую страсть, которая ему самому не даёт покоя.
Впечатлительному поэту казалось, что он подвергается нешуточным гонениям со стороны жестоковыйной власти. И если бы не мировая известность, не авторитет прогрессивной общественности, всегда готовой вступиться за гонимого, то… Но всё обходилось. Бывало, зарубежный тур отсрочат или очередную книгу стихов задержат на пару месяцев, а он уже снова чувствует гнёт опалы и ожидает чуть ли не ареста. Впрочем, грешил Явнух перед строгой властью не сказать, чтобы сильно. Ну, по прыткости забежит чуток вперёд медленно пыхтящего идеологического паровоза, или же сочинителя не в ту сторону занесёт. Товарищи из ЦК тут же поправят, возьмут в оборот, пожурят устно или через газету, а потом, чтобы не сильно страдал, сунут покаявшемуся проказнику глазированный пряник.
И вот он снова летит куда-нибудь в Латинскую Америку и шлёт оттуда стихи про очередную революцию. И себя, конечно, при этом не забудет: расскажет, как героически стыл ночью под мостом с некоей черноглазой никарагуаночкой, дожидаясь народного восстания, и она шептала ему на ухо: «Какой ты нетерпеливый, Явнухенио!» И нет для него ничего ближе и дороже, чем счастье и свобода братьев по разуму на таких беспокойных материках. Недаром, собрав свои зарубежные стихи в отдельную книгу, Андрэ назвал её «Интимная лирика».
Далеко не сразу я понял, что сама регулярность его поездок за границу и бесчисленные зарифмованные отчёты о них говорят лишь об одном: Явнух, как и его учитель Будимир Маньяковский, служил бойцом незримого коминтерна и заодно являл собой модель советского поэта, отстаивающего свободу идейно правильного слова. Взамен дома, на родине, ему позволялось некоторое вольномыслие и полемический задор, а власть между делом лишний раз демонстрировала миру свою демократичность и широту взглядов.
Примерно те же функции в культурной политике импортного и экспортного назначения выполнял и Эжен Вознесенко. С небольшой разницей в творчестве: если Явнушенский тяготел к традиции, то его коллега и соперник – к авангарду.
Явнух тоже был не чужд новаторства и бахвалился тем, что создал свою, явнушенскую рифму. Хотя ничего нового он не придумал: неполные, ассонансные созвучия давным-давно были присущи русской народной поэзии, затем, с начала XX века, вошли в арсенал поэтов-профессионалов. Единственным его новшеством было неумеренное и неряшливо-разухабистое применение ассонансной рифмы, отчего стихи порой походили на хлебное поле, буйно заросшее сорняками. Ему ничего не стоило рифмовать «Скрябина» со «скрягою», любуясь нелепым скрежетом согласных и не обращая внимания на смысл – то бишь на то, как грех скупости тенью марает не повинного в этом композитора.
Эжен Вознесенко пошёл своим путём, ему хотелось, чтобы на хлебном поле стиха были асфальт, стекло и железобетон. То бишь конструкции. Так современней, считал он. Зачем рубить избу, собирать по брёвнышку, тесать дерево, ладить кровлю, изукрашивать наличники, вырезать затейливого конька на крыше, когда есть подъёмный кран, опалубка, железобетонные блоки. Раз-два – и готов микрорайон, с квартирами а-ля Корбюзье!
Этот великий француз первым открыл миру, что городскому человеку, как функции производства, вполне достаточно для существования тесного жилища под низким потолком, до которого, не вставая на цыпочки, можно дотянуться рукой. Пришёл с работы, поел, ложись спать, а утром по гудку снова на смену. Функция должна быть функциональной, как сказал бы незабвенный Леонид Ильич (чего, однако, он не говорил).
Знаменитость притягательней магнита. Архитектор по образованию, Эжен, попав в Париж, первым делом направился в мастерскую гениального маэстро, а чуть позже описал для публики эту историческую встречу, о которой так долго мечтал.