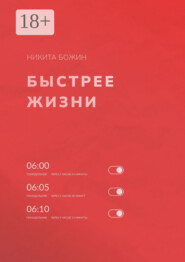По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Петроград
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Петроград
Никита Божин
Охваченный небывалыми по масштабам и значению событиями Петроград не утихает полгода. Среди революционных «вихрей» и нескончаемой неопределенности, на фоне многочисленных лидеров меркнут простые граждане. Люди окружены противоречивыми политическими настроениями, гнетом масштабной войны и сложными бытовыми условиями. Внимание читателя обращено на судьбы нескольких человек, которым присущи страхи, поиск себя, неизвестность, борьба и вместе с тем откровения, стремления и чувства радости от жизни.
Петроград
Никита Божин
На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.
В. Маяковский «Революция»
Дизайнер обложки Вера Филатова
© Никита Божин, 2017
© Вера Филатова, дизайн обложки, 2017
ISBN 978-5-4485-3827-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть I
Над Невским проспектом носился шум, наполненный смешением из стука копыт, колес экипажей, гула моторов и грохота трамваев, что плотно наполненные разной людской массой двигались по своим линиям, выписывая изо дня в день однообразные узоры по улицам и проспектам, доставляя пассажиров с целью и без цели в разные части города, развозя вместе с тем не только самих людей, но и слухи, новости, голоса. Что до голосов, то шум над Невским проспектом все больше стоял от них. Никто, вроде бы, не говорил слишком много или слишком громко, но все-все голоса, даже самые тонкие и тихие сливались воедино, и даже шепот, в таком случае, превращался в гул. Каждый из этих людей вносил свой вклад в суету и течение масс, каждый не посторонний здесь
Если бы кто-то из них вдруг заговорил сам с собой вслух, откровенно и не стесняясь присутствия людей, то непременно бы произнес, что мир вокруг стал совсем иным, нежели прежде, что не только с ним, но с целым народом творятся дела необъяснимые и пугающие. Пропасть, что разверзлась ни то позади, ни то впереди не дает спокойно ходить по ее краю и, так или иначе, манит сделать шаг в сторону – вперед или назад, и тогда – конец. Но для одного человека все и всегда кажется огромным и непостижимым, а сама история беспощадна, своим величием сокрушает и стирает роль индивида. Так может казаться, что вокруг нет ничего, кроме самых страшных или радостных событий – как посмотреть. Но всякий человек, что шагает сейчас по Невскому, а может Загородному, Каменоостровскому или Суворовскому проспектам, если он оглянется, прислушается и пойдет дальше, то узнает, что не история движет окружающим его городом, народом, как механизмом, а все наоборот. И без каждого дома, трамвая, магазина, мастерской, без телефона, почты, без улицы, без ветра и дождя, без болезни и смерти, без боли и радости, стремления, мечты и главное человека, ничего этого не будет и никогда не произойдет. Люди шагают по Невскому проспекту, и среди них идет один такой, без которого тоже, наверное, все сложилось бы по-другому, кое-чего могло и не существовать.
От стороны Николаевского вокзала к Аничкову мосту и далее, чтобы затем свернуть на Садовую улицу, идет человек. Житель Петрограда в таком давнем поколении, что предки его здесь жили чуть не со времен основания. И за долгое время семья его впитала много русского, но, в сущности, от русского у него только имя, а по крови, наверное, не наберется и одной десятой. Этакий европеец, статный, ростом чуть выше среднего, не худой, но и не полон, лицо мужественное, но не грубое, черты правильные, как на портрете, особенно хороший профиль. Светлые голубые глаза посажены чуть глубоко, как бы выглядывая из под бровей, или насмешливо и презренно оглядывая окружающее, или внимательно, до деталей, подозрительно высматривая что-то, он то и дело мог сощурить взор, напрячь мышцы лица, и мимика для его возраста, подошедшего к сорока годам, оставалась яркой и артистичной, хотя морщины уже успели пройтись по лицу, да и седина покрыла добрую треть волос. Узкий рот и утонченный подборок некогда украшали борода и усы, но уже более чем полгода он отказался от этой надобности, предпочитая гладкую, выбритую кожу по ряду некоторых понятных ему причин.
Этот человек – Алексей Сергеевич Нечаев, сотрудник газеты «Новое время», что на Эртелевом переулке. На должность он поступил трудиться в январе, а до этого четыре года работал в редакции адресного справочника «Весь Петербург», впоследствии переименованного в «Весь Петроград», и находясь на одной улице, Алексей Сергеевич всегда с небольшой завистью, да порой с простым человеческим желанием, посматривал на «Новое время», желая к нему присоединиться. Он завел там издавна знакомства, среди некоторых обрел даже единомышленников по ряду актуальных вопросов, многократно общался с особенно расположенными людьми, а также любил подчеркнуть да приукрасить, как бы к разговору, свой практический опыт деятельности в печатных изданиях разной направленности. Еще до «Всего Петрограда», с самого окончания учебы, занимаясь совсем недолго, и даже как бы по привычке, частными уроками на дому, Нечаев смог опубликоваться в журнале как поэт (по обыкновению многих молодых людей он писал стихи), а потом и сам нашел себе место, да так и остается по сей день в издательском деле. Переход в «Новое время», несмотря на ярое и давнее желание не принес особенных, восторженных чувств и даже несколько охладил самого Алексея Сергеевича. Едва грезы сделались реальностью, как все стало простым, скучным и таким же, каким было ровно до этого мига, только все отныне на новом месте, но по-старому. Нет, он чувствовал себя неплохо и жалование имел достаточное, но все так не случилось ничего такого, чтобы назвать «Новое время» именно такой целью, к которой стоило усердно стремиться, чтобы даже видеть во сне свое первое появление в редакции. Но желаемое свершилось, и теперь, наверное, так продлится очень долго, но может и нет, как знать.
Нечаев едва уже повернул на Садовую, как услышал, что в толпе обсуждают свежую и волнительную на сей час новость. Новость для широкого общественного круга, не являлась таковой для Нечаева, ведь он уже и без того все знал. 19-го августа 1917 года в Петроград пришли тревожные вести о масштабных наступлениях Германской армии на прибалтийском фронте, и в массах эта новость вызвала самые разные реакции, мысли и ожидания. Мгновенно переживая и усваивая это в своем разуме, недолго сдерживая внутреннее напряжение, процессы умственной деятельности выливались в демонстрационные и громкие результаты, и кто-то просто мог говорить громче, чем следует, но иным хватало ума декларировать, кричать и даже организовывать целые выступления по этому поводу. Вопрос, слышал ли их кто-нибудь, даже если стоял рядом, во все глаза смотрел, раскрыв рот, даже если пытался слушать, и, различая слова, совсем ничего не понимал. Но обо всем этом знал и Алексей Сергеевич, оценивая информацию отталкиваясь от строгих субъективных суждений, и воспринимать других домыслов и трактовок не желал, даже не признавая мыслей толпы за хоть какое-то мнение. Он еще утром осведомился в конторе, где эта новость тоже неожиданностью не предстала, а обсуждалась просто как данное, нечто логичное и закономерное. Многие из его окружения знали, что так будет, и это произошло, а потому знал и сам Нечаев. Но за пределами откуда-то осведомленных и всезнающих кругов тысячи людей не знали ничего, ни теперь, ни до, ни после, поэтому для них всякая весть становилась поводом для всплеска или уныния. И чем меньше представлений, а еще лучше – точных знаний об окружающей действительности, тем больше внимания приковывает к себе любая нелепица, а что уж говорить о вещах важности не только государственной, что порой, на самом деле, людей не касаются, а вопросов, ставящих собственную жизнь под еще одну угрозу. Без внимания ничего не проходило. Сегодня в попутной Нечаеву толпе не нашлось безумия или агрессии, хоть вести с фронта вызывали тревоги, и может где-то что-то произошло, но не на его дороге, поэтому путь к себе не занял слишком много времени и даже не оставил поводов на что-то оглянуться, все выглядело очень постоянным и привычным.
Он продолжал идти по улице, то и дело сторонился от двигающихся напролом людей, то объединенных в группы, то слоняющихся отдельно, с целью и без нее, много попадалось навстречу народа. А на Садовой всегда многолюдно, но в последнее время, как может показаться, это стало особенно заметно и откровенно мешало пешему передвижению. А с убавлением порядка прибавило хаоса и неудобств. Иной человек теперь никогда не свернет с пути, будет шагать, как будто нет кругом препятствий, и он бы стенку насквозь прошел, доставай ему сил. Неудобств такого плана все больше и больше, как отмечал Нечаев. В народе выявились и прямо лезли наружу дикие, откровенно ненужные человеку привычки и манеры поведения. Хамство со злобой, – а все от отсутствия ума, – ныне заполняло все пространство, порожденное продолжительным угнетением целого класса и его невольной вековой непросветленностью.
К вечеру поднимался сильный ветер, явившись на смену ветру обычному, повседневному, разгоняя пыль с улиц, которые давно не поливали, и оттого дышать становилось неприятно, и даже одежда все скорее пачкалась, и то и дело приходилось вычищать пальто, шляпу, штаны, а временами и пиджак. Наклонив голову, глядя строго под ноги, и по той причине невольно столкнувшись плечом с парой невнятного вида молодых человек, Нечаев с радостью свернул прочь с улицы и вошел через парадную лестницу в дом, где он снимал себе одну комнату с мебелью. Комнату приятную, по большей части чистую и очень тихую, да благо соседство ему составляли порядочные жильцы, и те «углов» не держали, а жили строго индивидуально, и все с виду русские, что для Нечаева, трепетно относившегося к национальному вопросу, было чрезвычайно важно.
На лестнице в последние месяцы темно и сыро, как и во всем городе. Парадная лестница несколько утратила свой торжественный, приветственный вид. Померкшие краски, загрязнившийся белый цвет, не вызывающая более восторга лепнина, заскрипевшая поцарапанная дверь, и даже неизменные искусные кованые балясины не спасали дом от всепроникающего ощущения уныния и тоски, охватившей все вокруг. Грязными и засаленными сделались ручки поручней, чуть не под каждой ступенькой сбивалась грязь да пыль, и запах держался все более противный. И вот ведь дело, казалось бы, люди все живут приличные, даже аккуратные с виду, чистые и опрятные, а в общих помещениях все грязнее.
Поднявшись на свой этаж, Алексей Сергеевич с неудовольствием отряхивал рукава и отплевывался от пыли, что залетела в рот и нос, хотя в поведении своем он несколько переусердствовал, ведь не такие уж и грязные улицы сегодня. И все же он настойчиво ругался, выражая откровенное недовольство по надоевшему поводу, чем привлек внимание любопытного и вполне себе хорошо слышащего пожилого владельца доходного дома Ивана Михайловича Ольхина. В силу обстоятельств Иван Михайлович сам же в этом доме и проживал, не имея другой недвижимости, он держал для себя и жены две комнаты, гостиную, столовую и кабинет на одном и том же этаже, где проживал и Нечаев. Хозяин дома обыкновенно вышел в коридор, одетый в свой вечный жилет и плотный пиджак. Поверх этих одеяний он иногда накидывал еще вязаный халат, но было не так и холодно, потому он показался в привычном наряде. Сам Ольхин невысокого роста, крепок и для своих лет в хорошем уме, хотя любопытство к чужим жизням уже постепенно нарастало в нем все сильнее и сильнее, но для него развивающийся порок оставался незаметен. Этот незначительный возрастной нюанс не делал его хуже, ведь в целом Иван Михайлович сохранил рассудок, покладистость и в основательность в хозяйских делах, особенно тех немногих, что не попадали под ведомство жены. Свой внешний вид он не позволял запускать, регулярно ровняя короткую светлую бороду и несколько длинные редкие волосы в цирюльне неподалеку. Одежду носил хоть одну и ту же, да все же чистую, и сам уважал чистоту да порядок в своих жилых помещениях. Можно дополнить, что человек безмерно ценил статичность, и даже предметы в его комнатах редко меняли местоположение, а если и бывала надобность, то только в случае крайней необходимости, и то на время.
– Опять тяжко вам от пыли, Алексей Сергеевич? – любезно осведомился Ольхин у своего нанимателя. Этот опрос он задавал часто и всегда как в первый раз.
– Мучаюсь, – кивнул тот, прекратив, наконец, отряхиваться. – И когда это кончится?
– Надо думать, не скоро, Алексей Сергеевич, больно уж затянулось все. В марте, помните, вы мне говорили, что вскоре все образумится? Но лучше ничего не стало.
– Откровенно говоря, я сам не верил в то, что говорил, – на выдохе ответил Нечаев.
– «Известия» пишут, – вернулся к теме загрязнения улиц Иван Михайлович. – Не сегодня-завтра эпидемия может вспыхнуть. Улицы в грязи и мусоре, никогда такого не видывали, чтобы полгода этакая страсть. Как раз летом да осенью самая опасность. «Петроградский листок» то же самое утверждает. А у вас, что на этот счет говорят?
– У нас? Да ничего уже не говорят, все и так очевидно. Завтра как вспыхнет новая чума, так и вымрет город, как в XIV веке будет.
– Спаси Господи! – медленно перекрестился хозяин дома.
– На милость божью и надеемся, Иван Михайлович, на милость, – махнув рукой сказал Нечаев, да не нашел больше слов.
На том они одновременно замолчали, слегка раскланялись и разошлись каждый в свою сторону. Что уж в сотый раз обсуждать одни и те же вопросы? Который день и который час они виделись и по десятку раз поминали одни и те же невзгоды. И если Ольхин вполне себе готов обсуждать проблемы целыми днями, то Алексею Сергеевичу немного надоедало, особенно в дни тяжкой умственной работы, и он деликатно уходил от беседы, чтобы старик ничего не заметил и не огорчился, ведь нынче для него и без того почти не оставалось радостей, кроме как поговорить, а с женой он бесед не любил. Иван Михайлович, в свою очередь, очень радовался такому нанимателю, как Нечаев. В этом человеке он видел отголоски того времени, о котором он теперь с грустью вспоминал, и полагал, что Нечаев тоже очень тоскует по другим временам, когда сам город и все вокруг было другим. Он же представлялся для Ольхина человеком с улицы, кто мог принести новости не в виде сплетен, а достоверно, как сотрудник газеты, и через него можно проверить актуальность других газет, что поднимало иногда поводы для дискуссий. Лишь издания, настроенные на крайнюю агитацию в сторону правительства или противостоящих Советов и партий, условились не обсуждать. Сам Иван Михайлович давно уже на улицу предпочитал не выходить. Он лишь посещал цирюльника, что держал помещение поблизости, да иногда выходил по мелким делам, но все больше последние месяцы проводил дома, и так ему казалось спокойнее.
Алексей Сергеевич уселся в единственное кресло в своей комнате. Расположившись дольно удобно, он уставился глазами в угол комнаты, где стояли два стула, один из которых особенно сильно покрылся пылью, видимо, совсем не пригождаясь одинокому человеку. Так и сидел он, глядя в одну сторону, да понемногу дремал. С недавних пор он предпочитал без повода не бывать на улице, не получая прежнего морального и физического удовольствия от прогулок, что составляли его юность, студенчество и даже взрослый возраст, когда для многих прогулки как таковые выпадают, остаются только пути. Прежде ведь, находится пешком, выветрится, рассматривая город, любуясь им, а как устанет, что аж сил нет, засядет в каком-нибудь месте, выпьет и расслабится. Поразмыслить любил да потолковать. Почитать да покритиковать. И так к ночи домой и придет уставший, но удовлетворенный. Но вот случившееся в феврале очень подорвало его частное бытие. Он не думал, даже и не пытался принять судьбу всего прочего города, без особого труда понимая, что судьба у многих теперь очень похожа. И хоть и стыдно теперь признать даже для себя, но в юности он тоже имел грех и увлекался нигилизмом, резкими революционными идеями и даже состоял одновременно в паре неофициальных обществ, которые как формировались, так и исчезали. Одна беда, никогда он не мог дать себе ответа, против чего бунтует, за что желает бороться. Свержение власти, внесение справедливости, помощь угнетенным, все это звучало прекрасно, даже благородно, но по сути, осталось лишено фактической, действенной части. Нечаев никак не мог проследить преобразования в стране с 1861 года, не правильно трактовал, а то и вовсе не понимал цели и задачи интеллигенции как прошлой, так и своих современников. Борьба с существующей экономической и нераздельно с ней социальной системами никак цельно в нем не укладывалась, и он восстал, да сам не мог ясно выразить, против чего именно. Все это веселье, весь романтизм очень скоро угасли в нем, почти так же внезапно, как и зародились. А ведь много его товарищей и знакомых, кто слишком яро или правильно все воспринимал, теперь либо сложили голову, либо сгинули, да так и таятся. А кто-то из такой затейливой и своенравной интеллигенции сформировал основу, что, так или иначе имели влияние на массы и могли прослыть революционерами или убежденными в этом людьми. Исключительно в теории, в годы своей юности, Нечаев неплохо был знаком с революционными идеями и анархизмом. Дух бунтарства трепетал в нем, а сам бунтующий человек вызывал в сознании восторг и ощущение истинности выбранного пути. Само чувство борьбы и стремление бороться представляло цельную истинность даже не пути революционера, но самого человека. Только в непрерывном усилии виделся путь и достижение хоть бы самой незначительной цели. Ему доводилось читать иностранных мыслителей, черпая идеи, и уважал он, среди прочего, соотечественника Бакунина, имея представления о его деятельности в 1848—1849 годах в Европе, и на его месте он иногда представлял себя как героя. Задумываясь не только о личностях, коих в удивительный XIX век родилось и взросло в Европе в таких количествах, что куда не оглянись – кругом гении, гении, гении, и вокруг неспокойный, меняющийся мир! Творцы и мыслители, что влияли на саму историю, росли на трудах и мыслях таких гениев веков прежних. Слово, мысль, как важнейшие инструменты, что через века сохраняли и развивали знания, общими усилиями создали настоящее. Эти истории вызывали возбуждение и жажду ни то крови, ни то разрушения, но ничего осмысленного, по временам выбиваясь в неопределенную жажду творить, хоть бы и стихи, а хоть историю. Когда ты юн, то ничего не понимаешь о мире и политике, как много не изучаешь, но всегда готов стоять против мира и политики. Восстанческие мысли зрели и бродили не только в нем или его окружении. Этот процесс в русском обществе оказался, разумеется, неизбежным, хотя бы под влиянием внешнего мира, где революционные темы являлись не просто словами, но вполне воплощались. И они проникали к нам, минуя старые, довольные поколения небедных людей и горожан, а уж тем более далекую от народа власть, попадая только в умы уже их детей, точно отражаясь от угнетенных масс, эти идеи множились и больше никогда не исчезали. Увлечение становилось идеологией, которой проникались. Таких, как Нечаев, рождалось много. И как тогда их всех не казнили…
Во времена расцвета своих убеждений, он вспомнил образы бедных людей, их иссушенные руки с кривыми пальцами от работы, он видел их лица в морщинах и понимал, что стыдно ему роптать на что-то, стыдно за свои мысли, пока другие находятся в таком положении. Сходу он не мог вспомнить хоть какого-то конкретного человека, не мог описать рабочего или крестьянина, которого хотя бы отдаленно знал. Все его представления строились на образах, но отчего-то совсем выпадало понятие реального человека. Нечаев полагал, что точно знает, чего хочет народ, и к чему стоит стремиться. Все свои мелочные невзгоды он с радостью приравнивал к народным и накладывал свои цели на всеобщие. Стоит указать, что сам Нечаев походил из семьи горожан, что уже второе поколение жили в Петербурге и являлись представителями не особо богатой, но все же интеллигенции. Любые трудности, какие могут быть у такого человека, представлялись ему положительным фактором, создающим условия для восхитительной борьбы, трудности питали его и вдохновляли.
Ранняя смерть родителей все же оказала на него одно из наиболее сильных влияний, чем все происходящее в жизни. Всяческие представления и мысли рушились о такое понятие, как смерть, как завершение любой борьбы. А следом наступило время, когда бестолково иссякли и средние финансовые накопления. В это время ему открылось, что трудиться просто придется, иначе умрешь. В этот период крайне революционные мысли стали сменяться обычным неудовольствием от такой жизни, и все более отходя от фундаментальных понятий революции, как свержения монархии или целого класса, Нечаев склонялся к тому, что человеку, то есть ему персонально, хотелось бы иметь выгоду в жизни, удобства, да и всего. Нет, смерть родителей не потушила в нем огня, не положила конец стремлениям, но «агония», страстное, лихорадочное состояние, сменилось более рассудительным и бытовым. Нечаев умерил пыл, стал смотреть на ситуацию двояко, и видеть в классе угнетенном свои недостатки, и его идеи склонились в строну реформ, в сторону демократических путей перестроения государства, а вот граждан он считал делом «десятым», все более помышляя о вещах высоких и глобальных, о той же буржуазной революции, а прочее, как бы, само собой приложится. Полтора года он провел в рабочей, бедной среде, иногда отчаиваясь, что на этом его путь замкнется, и вся жизнь так и пройдет. Лишь от неудовольствия положением, сохраняя отголоски былых интересов и не забывая своего интеллигентного начала и вызубренных навыков литературного дела, даже более того, испытывая к тому тайную страсть, писал стихи, рассказы и статьи, пытаясь вложить в них глубокий смысл, уподобляясь гениям русского слова и, конечно, помышляя о славе писателя или поэта. В итоге ему удалось даже опубликоваться несколько раз, после чего он удостоился приглашения в одно издание помощником редактора. Так начался его путь, принесший в итоге некоторое финансовое состояние и удовлетворение от жизни. Работа не физическая, достатка хватало, и на мир он стал смотреть иначе, постепенно отдаляясь от революционных идей вовсе, а все более удовлетворяясь своей жизнью. За годы деятельности он сменил три газеты, прежде чем попал в редакцию справочника «Весь Петроград» и теперь достиг «Нового времени», но, увы, ничего не принесло ему особенного счастья. Дело кроется, быть может, и в возрасте, когда уже не те эмоции, и все дается даже как будто бы легче, или это только так кажется, воспринимается. На свои юные годы и увлечения Нечаев смотрел свысока и со снисходительной улыбкой. Не обладая должной теоретической базой, он всегда грезил идеями сугубо эмоционально, а скудные, даже по собственным современным оценкам, знания не могли дать ничего, кроме чудных фантазий. А потому все ушло, не оставляя следов, не раздражая память и редко теперь приходилось задумываться о делах молодости. А с возрастом жизнь сделалась интереснее, жалование лучше, и все протекало очень тихо, спокойно и приятно. К народным массам Алексей Сергеевич сохранял обыкновенное равнодушие и иногда даже беззлобную нелюбовь. Между дел, как положено интеллигенту, любил он ругнуть даже правительство во главе с царем, но аккуратно и не регулярно. Так и шла жизнь, каждый день. Все хорошо, да только не было счастья.
А теперь уж, когда город, в котором он живет от самого рождения, превращается в место, где ему же жить невозможно, то о каком счастье можно говорить? Ах, как слеп он был, как глуп, когда пел «Рабочую Марсельезу» написанную Лавровым, когда горячо тряс руку товарищам по идейным убеждениям и даже когда совсем недавно угрюмо молчал перед Горьким, повстречав того на мероприятии, слушая его мысли и точки зрения и не смея перебивать. Известный деятель силен в речах, он как скала, и никто не смел тогда ему перечить из молодых и неизвестных творцов да никчемных журналистов, как молчал среди них и сам Нечаев. Разве этого он хотел, когда читал труды о революции, разве это его место? Именно свое место в происходящем больше всего и беспокоило Алексея Сергеевича. Что если все случилось, как и должно, и это всего лишь он сам не обрел себе места? Что за честь говорит в нем? Нечаев не дворянин и не сын офицера, нечего ему смущаться. Когда страну разрывают на части, можно найти и свой кусок счастья на общем пиру стервятников. И тут закроет глаза и подумает: да как ведь так можно, как вообще такое в голову может прийти? Для него в юности революция – правитель на гильотине, вся былая власть – за ним же, и кругом баррикады, сражения, и даже кто-то погибает, какие-то безликие герои проливают кровь! А потом – новое время, новый мир, и все. Незначительные сотни страниц книг, да строки прокламаций и сотни часов бесед так никогда и не открыли перед ним, что смерть одного общества и зарождение другого – долгий, тяжкий и мучительный процесс, особенно когда ты просто наблюдатель. Никогда он не представлял себе, как на самом деле вершатся перевороты. А когда от этого отходишь, так и вовсе стыдно становится, даже перед собой, ведь ты уже как будто не блага хотел, а страшного зла, всего того, что проклинаешь сейчас. И все это вызвало путаницу, и не ясно, где правда, а где нет ее, так все и колеблется на грани, и очень сложно открыть для себя, где правильный путь, ведь не вся жизнь – прогулка.
Ночью в доме по обыкновению тихо. Ольхин оставался верен отчасти убеждениям, а отчасти рядовому чувству, что раз он сам в этом же доме и вынужден жить, то никак не имеет права набирать кого попало, и всякий желающий с улицы не мог снять здесь комнату. Людей всевозможного распутного или аморального образа жизни в доме не имелось. По крайне мере, исходя из поверхностного оценивающего взгляда, так вполне можно сказать. И даже из помещений цокольных или мансардных не доносилось шумов или излишних запахов. И хоть каждая комната в доме оказалась занята, ночи оставались спокойными. Совсем иное можно поведать об улице, и даже не обязательно Садовой, но, наверное, любой. Если в дневное время массы представляли собой хоть и опасность, но в то же время и защиту, то к ночи мрак поглощал все надежды на спокойствие, и никто без очень важной цели не ходил по улицам, и уж тем более переулкам, что и прежде могли пугать нового в городе человека. Ночи Алексей Сергеевич не любил. Редко он спал спокойно, и дело не только в шуме, но и в чувстве опасения за свою жизнь и имущество. Все чаще теперь приходилось слышать про обыски, но, по сути – ночные налеты на квартиры. Цель всегда одна – грабеж, а следом тянулись и прочие преступления. Всякий раз очень неприятно видеть разграбленные и разбитые лавки и магазины. После каждой ночи представлялось возможным либо собственными глазами лицезреть подобное, либо узнать об этом от другого человека или из газеты. Достоверно не ясно, что из озвученного правда, а что не то что вымысел, но бесцеремонная ложь, но мнений и слухов по улицам носилось множество. В целом, улица стала теперь небывалым источником разнородной информации, и иногда Алексей Сергеевич считал, что в таких условиях газеты скоро станут не нужны. Впрочем, это же заблуждение он сам легко преодолевал, едва ему попадался очередной номер ненавистного ему «Рабочего пути» или другой пропагандистской работы, влияние ее оценивалось по достоинству. Все это вносило свою лепту в каждый новый день.
В марте Нечаев думал, что в скором времени все окружающее рухнет, и от страны не останется и следа. Он уже нехотя, даже лениво, помышлял об эмиграции, но к апрелю страна еще стояла, хоть и продолжалась война снаружи, хоть и совсем тяжко становилось внутри, тревога немного утихала, жизнь казалась несколько уравновешенной и терпимой. Впрочем, поводов для возгорания все новой тревоги оставалось предостаточно. Все те же грабежи в домах под видом обысков, а иногда и просто так, ничем не обусловленные, наводили едва затихающий страх. И как любой дом, лишенный хозяев, город постепенно терял и свой очаровательный вид. Во времена безвластия и упадка, проявляли себя пороки и отрицательные черты толпы. Лишенный управления, город не только наводнился сомнительными и равнодушными людьми, но и многие из тех, кто до недавнего времени вышагивал по чистым улицам, кто мог видеть перед собой могучие и поражающие воображение архитектурные ансамбли, парки, и узоры всякого уголка, составляющие единую, полноценную картину всего города, теперь вдруг с общими усилиями только пакостили и больше ни за чем не замечены. Город мерк, и вечно поблекшее небо никогда еще так хорошо не передавало отражение такого истинного уныния и даже отвращения, что местами мог вызывать сам Петроград. Он давно уже не смотрелся той сияющей и грациозной русской столицей, а только холодным, каменным средневековым городом, по улицам которого шагает смерть и запустение. Долгие и насыщенные два столетия, что образовывали этот город от самой первой постройки, до грандиозных дворцов, соборов и набережных, теперь казались такой же далекой и неправдоподобной историей, точно читаешь о древнем Риме, а уж никак не о юной столице, где еще совсем недавно расхаживал сам Петр I. Прошлое изящество как будто бы умерло, и над всем лишь довлело настоящее, а сам Петроград подобен старику – немощному и даже пугающему своей не по годам опрятной внешности, что кроется где-то под неразличимыми новыми образами. Лишь частная собственность хоть как-то охранялась от посягательств, и за рядовой дом иной раз спокойнее, чем за любое памятное место. И все равно, каждую ночь многие тревожились, что сегодня к ним придут грабители и потому очень тосковали, кто по былому времени, кто просто по спокойствию. И так каждую ночь.
Воскресное утро, а следом и весь день, Нечаев предпочел бы провести у себя в комнате, не выходя из нее, но определенная надобность для выхода на улицу имелась, а потому, проснувшись по привычке рано, Алексей Сергеевич, лишь скромно позавтракав с Ольхиным, что бывало у них частым делом, собрался уходить. Заканчивая последние кусочки, в очередной раз доставшиеся ему даром, по доброй воле хозяина, что откровенно подкармливал приятного жильца сверх положенного, Нечаев доел еще и кусок хлеба, оставив тарелку пустой.
– Куда же вы и по какому делу направляетесь, Алексей Сергеевич? – разжевывая позавчерашнее сухое мясо, спрашивал Ольхин.
– На Петроградскую сторону мне нужно, на Малую Дворянскую, – уже поднявшись, ответил ему Нечаев, хоть и никогда не любил этих любопытных расспросов, но не ответить всегда казалось ему неприличной манерой, особенно когда тебя кормят.
– Никак опять к Прокофию Николаевичу обувь носили в ремонт? – сразу принялся гадать хозяин дома.
– Совершенно верно, Иван Михайлович, у второй пары совсем истерлась подошва, пришлось отдать.
– И хочется вам так далеко носить свои туфли? Мастерские ведь и рядом имеются, а это через такое расстояние, – тут же вступился с предпосылкой к спору и совету Иван Михайлович.
– Так знаком мне лично и приятен Прокофий Николаевич, да и делает мне дешевле.
– Ох, Алексей Сергеевич, вы уж аккуратнее… По городу будете идти, так не показывайте, что вторую пару обуви несете. Все эти люди, матросы, дезертиры еще примут вас, не дай боже, за человека обеспеченного. Всякое может случиться, – заканчивал фразу он почти шепотом, точно заговорщик.
– Да я уж буду осторожен. Туда на трамвае, а обратно пешком, так лучше будет, – заверял Нечаев, не так сильно опасавшийся людей.
– Может извозчиком лучше? В трамваях, вы же сами говорили, обворовывают теперь часто. Да и народа в нем ныне катается. Солдаты-то заполонили, ведь прежде не дозволяли.
Никита Божин
Охваченный небывалыми по масштабам и значению событиями Петроград не утихает полгода. Среди революционных «вихрей» и нескончаемой неопределенности, на фоне многочисленных лидеров меркнут простые граждане. Люди окружены противоречивыми политическими настроениями, гнетом масштабной войны и сложными бытовыми условиями. Внимание читателя обращено на судьбы нескольких человек, которым присущи страхи, поиск себя, неизвестность, борьба и вместе с тем откровения, стремления и чувства радости от жизни.
Петроград
Никита Божин
На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.
В. Маяковский «Революция»
Дизайнер обложки Вера Филатова
© Никита Божин, 2017
© Вера Филатова, дизайн обложки, 2017
ISBN 978-5-4485-3827-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть I
Над Невским проспектом носился шум, наполненный смешением из стука копыт, колес экипажей, гула моторов и грохота трамваев, что плотно наполненные разной людской массой двигались по своим линиям, выписывая изо дня в день однообразные узоры по улицам и проспектам, доставляя пассажиров с целью и без цели в разные части города, развозя вместе с тем не только самих людей, но и слухи, новости, голоса. Что до голосов, то шум над Невским проспектом все больше стоял от них. Никто, вроде бы, не говорил слишком много или слишком громко, но все-все голоса, даже самые тонкие и тихие сливались воедино, и даже шепот, в таком случае, превращался в гул. Каждый из этих людей вносил свой вклад в суету и течение масс, каждый не посторонний здесь
Если бы кто-то из них вдруг заговорил сам с собой вслух, откровенно и не стесняясь присутствия людей, то непременно бы произнес, что мир вокруг стал совсем иным, нежели прежде, что не только с ним, но с целым народом творятся дела необъяснимые и пугающие. Пропасть, что разверзлась ни то позади, ни то впереди не дает спокойно ходить по ее краю и, так или иначе, манит сделать шаг в сторону – вперед или назад, и тогда – конец. Но для одного человека все и всегда кажется огромным и непостижимым, а сама история беспощадна, своим величием сокрушает и стирает роль индивида. Так может казаться, что вокруг нет ничего, кроме самых страшных или радостных событий – как посмотреть. Но всякий человек, что шагает сейчас по Невскому, а может Загородному, Каменоостровскому или Суворовскому проспектам, если он оглянется, прислушается и пойдет дальше, то узнает, что не история движет окружающим его городом, народом, как механизмом, а все наоборот. И без каждого дома, трамвая, магазина, мастерской, без телефона, почты, без улицы, без ветра и дождя, без болезни и смерти, без боли и радости, стремления, мечты и главное человека, ничего этого не будет и никогда не произойдет. Люди шагают по Невскому проспекту, и среди них идет один такой, без которого тоже, наверное, все сложилось бы по-другому, кое-чего могло и не существовать.
От стороны Николаевского вокзала к Аничкову мосту и далее, чтобы затем свернуть на Садовую улицу, идет человек. Житель Петрограда в таком давнем поколении, что предки его здесь жили чуть не со времен основания. И за долгое время семья его впитала много русского, но, в сущности, от русского у него только имя, а по крови, наверное, не наберется и одной десятой. Этакий европеец, статный, ростом чуть выше среднего, не худой, но и не полон, лицо мужественное, но не грубое, черты правильные, как на портрете, особенно хороший профиль. Светлые голубые глаза посажены чуть глубоко, как бы выглядывая из под бровей, или насмешливо и презренно оглядывая окружающее, или внимательно, до деталей, подозрительно высматривая что-то, он то и дело мог сощурить взор, напрячь мышцы лица, и мимика для его возраста, подошедшего к сорока годам, оставалась яркой и артистичной, хотя морщины уже успели пройтись по лицу, да и седина покрыла добрую треть волос. Узкий рот и утонченный подборок некогда украшали борода и усы, но уже более чем полгода он отказался от этой надобности, предпочитая гладкую, выбритую кожу по ряду некоторых понятных ему причин.
Этот человек – Алексей Сергеевич Нечаев, сотрудник газеты «Новое время», что на Эртелевом переулке. На должность он поступил трудиться в январе, а до этого четыре года работал в редакции адресного справочника «Весь Петербург», впоследствии переименованного в «Весь Петроград», и находясь на одной улице, Алексей Сергеевич всегда с небольшой завистью, да порой с простым человеческим желанием, посматривал на «Новое время», желая к нему присоединиться. Он завел там издавна знакомства, среди некоторых обрел даже единомышленников по ряду актуальных вопросов, многократно общался с особенно расположенными людьми, а также любил подчеркнуть да приукрасить, как бы к разговору, свой практический опыт деятельности в печатных изданиях разной направленности. Еще до «Всего Петрограда», с самого окончания учебы, занимаясь совсем недолго, и даже как бы по привычке, частными уроками на дому, Нечаев смог опубликоваться в журнале как поэт (по обыкновению многих молодых людей он писал стихи), а потом и сам нашел себе место, да так и остается по сей день в издательском деле. Переход в «Новое время», несмотря на ярое и давнее желание не принес особенных, восторженных чувств и даже несколько охладил самого Алексея Сергеевича. Едва грезы сделались реальностью, как все стало простым, скучным и таким же, каким было ровно до этого мига, только все отныне на новом месте, но по-старому. Нет, он чувствовал себя неплохо и жалование имел достаточное, но все так не случилось ничего такого, чтобы назвать «Новое время» именно такой целью, к которой стоило усердно стремиться, чтобы даже видеть во сне свое первое появление в редакции. Но желаемое свершилось, и теперь, наверное, так продлится очень долго, но может и нет, как знать.
Нечаев едва уже повернул на Садовую, как услышал, что в толпе обсуждают свежую и волнительную на сей час новость. Новость для широкого общественного круга, не являлась таковой для Нечаева, ведь он уже и без того все знал. 19-го августа 1917 года в Петроград пришли тревожные вести о масштабных наступлениях Германской армии на прибалтийском фронте, и в массах эта новость вызвала самые разные реакции, мысли и ожидания. Мгновенно переживая и усваивая это в своем разуме, недолго сдерживая внутреннее напряжение, процессы умственной деятельности выливались в демонстрационные и громкие результаты, и кто-то просто мог говорить громче, чем следует, но иным хватало ума декларировать, кричать и даже организовывать целые выступления по этому поводу. Вопрос, слышал ли их кто-нибудь, даже если стоял рядом, во все глаза смотрел, раскрыв рот, даже если пытался слушать, и, различая слова, совсем ничего не понимал. Но обо всем этом знал и Алексей Сергеевич, оценивая информацию отталкиваясь от строгих субъективных суждений, и воспринимать других домыслов и трактовок не желал, даже не признавая мыслей толпы за хоть какое-то мнение. Он еще утром осведомился в конторе, где эта новость тоже неожиданностью не предстала, а обсуждалась просто как данное, нечто логичное и закономерное. Многие из его окружения знали, что так будет, и это произошло, а потому знал и сам Нечаев. Но за пределами откуда-то осведомленных и всезнающих кругов тысячи людей не знали ничего, ни теперь, ни до, ни после, поэтому для них всякая весть становилась поводом для всплеска или уныния. И чем меньше представлений, а еще лучше – точных знаний об окружающей действительности, тем больше внимания приковывает к себе любая нелепица, а что уж говорить о вещах важности не только государственной, что порой, на самом деле, людей не касаются, а вопросов, ставящих собственную жизнь под еще одну угрозу. Без внимания ничего не проходило. Сегодня в попутной Нечаеву толпе не нашлось безумия или агрессии, хоть вести с фронта вызывали тревоги, и может где-то что-то произошло, но не на его дороге, поэтому путь к себе не занял слишком много времени и даже не оставил поводов на что-то оглянуться, все выглядело очень постоянным и привычным.
Он продолжал идти по улице, то и дело сторонился от двигающихся напролом людей, то объединенных в группы, то слоняющихся отдельно, с целью и без нее, много попадалось навстречу народа. А на Садовой всегда многолюдно, но в последнее время, как может показаться, это стало особенно заметно и откровенно мешало пешему передвижению. А с убавлением порядка прибавило хаоса и неудобств. Иной человек теперь никогда не свернет с пути, будет шагать, как будто нет кругом препятствий, и он бы стенку насквозь прошел, доставай ему сил. Неудобств такого плана все больше и больше, как отмечал Нечаев. В народе выявились и прямо лезли наружу дикие, откровенно ненужные человеку привычки и манеры поведения. Хамство со злобой, – а все от отсутствия ума, – ныне заполняло все пространство, порожденное продолжительным угнетением целого класса и его невольной вековой непросветленностью.
К вечеру поднимался сильный ветер, явившись на смену ветру обычному, повседневному, разгоняя пыль с улиц, которые давно не поливали, и оттого дышать становилось неприятно, и даже одежда все скорее пачкалась, и то и дело приходилось вычищать пальто, шляпу, штаны, а временами и пиджак. Наклонив голову, глядя строго под ноги, и по той причине невольно столкнувшись плечом с парой невнятного вида молодых человек, Нечаев с радостью свернул прочь с улицы и вошел через парадную лестницу в дом, где он снимал себе одну комнату с мебелью. Комнату приятную, по большей части чистую и очень тихую, да благо соседство ему составляли порядочные жильцы, и те «углов» не держали, а жили строго индивидуально, и все с виду русские, что для Нечаева, трепетно относившегося к национальному вопросу, было чрезвычайно важно.
На лестнице в последние месяцы темно и сыро, как и во всем городе. Парадная лестница несколько утратила свой торжественный, приветственный вид. Померкшие краски, загрязнившийся белый цвет, не вызывающая более восторга лепнина, заскрипевшая поцарапанная дверь, и даже неизменные искусные кованые балясины не спасали дом от всепроникающего ощущения уныния и тоски, охватившей все вокруг. Грязными и засаленными сделались ручки поручней, чуть не под каждой ступенькой сбивалась грязь да пыль, и запах держался все более противный. И вот ведь дело, казалось бы, люди все живут приличные, даже аккуратные с виду, чистые и опрятные, а в общих помещениях все грязнее.
Поднявшись на свой этаж, Алексей Сергеевич с неудовольствием отряхивал рукава и отплевывался от пыли, что залетела в рот и нос, хотя в поведении своем он несколько переусердствовал, ведь не такие уж и грязные улицы сегодня. И все же он настойчиво ругался, выражая откровенное недовольство по надоевшему поводу, чем привлек внимание любопытного и вполне себе хорошо слышащего пожилого владельца доходного дома Ивана Михайловича Ольхина. В силу обстоятельств Иван Михайлович сам же в этом доме и проживал, не имея другой недвижимости, он держал для себя и жены две комнаты, гостиную, столовую и кабинет на одном и том же этаже, где проживал и Нечаев. Хозяин дома обыкновенно вышел в коридор, одетый в свой вечный жилет и плотный пиджак. Поверх этих одеяний он иногда накидывал еще вязаный халат, но было не так и холодно, потому он показался в привычном наряде. Сам Ольхин невысокого роста, крепок и для своих лет в хорошем уме, хотя любопытство к чужим жизням уже постепенно нарастало в нем все сильнее и сильнее, но для него развивающийся порок оставался незаметен. Этот незначительный возрастной нюанс не делал его хуже, ведь в целом Иван Михайлович сохранил рассудок, покладистость и в основательность в хозяйских делах, особенно тех немногих, что не попадали под ведомство жены. Свой внешний вид он не позволял запускать, регулярно ровняя короткую светлую бороду и несколько длинные редкие волосы в цирюльне неподалеку. Одежду носил хоть одну и ту же, да все же чистую, и сам уважал чистоту да порядок в своих жилых помещениях. Можно дополнить, что человек безмерно ценил статичность, и даже предметы в его комнатах редко меняли местоположение, а если и бывала надобность, то только в случае крайней необходимости, и то на время.
– Опять тяжко вам от пыли, Алексей Сергеевич? – любезно осведомился Ольхин у своего нанимателя. Этот опрос он задавал часто и всегда как в первый раз.
– Мучаюсь, – кивнул тот, прекратив, наконец, отряхиваться. – И когда это кончится?
– Надо думать, не скоро, Алексей Сергеевич, больно уж затянулось все. В марте, помните, вы мне говорили, что вскоре все образумится? Но лучше ничего не стало.
– Откровенно говоря, я сам не верил в то, что говорил, – на выдохе ответил Нечаев.
– «Известия» пишут, – вернулся к теме загрязнения улиц Иван Михайлович. – Не сегодня-завтра эпидемия может вспыхнуть. Улицы в грязи и мусоре, никогда такого не видывали, чтобы полгода этакая страсть. Как раз летом да осенью самая опасность. «Петроградский листок» то же самое утверждает. А у вас, что на этот счет говорят?
– У нас? Да ничего уже не говорят, все и так очевидно. Завтра как вспыхнет новая чума, так и вымрет город, как в XIV веке будет.
– Спаси Господи! – медленно перекрестился хозяин дома.
– На милость божью и надеемся, Иван Михайлович, на милость, – махнув рукой сказал Нечаев, да не нашел больше слов.
На том они одновременно замолчали, слегка раскланялись и разошлись каждый в свою сторону. Что уж в сотый раз обсуждать одни и те же вопросы? Который день и который час они виделись и по десятку раз поминали одни и те же невзгоды. И если Ольхин вполне себе готов обсуждать проблемы целыми днями, то Алексею Сергеевичу немного надоедало, особенно в дни тяжкой умственной работы, и он деликатно уходил от беседы, чтобы старик ничего не заметил и не огорчился, ведь нынче для него и без того почти не оставалось радостей, кроме как поговорить, а с женой он бесед не любил. Иван Михайлович, в свою очередь, очень радовался такому нанимателю, как Нечаев. В этом человеке он видел отголоски того времени, о котором он теперь с грустью вспоминал, и полагал, что Нечаев тоже очень тоскует по другим временам, когда сам город и все вокруг было другим. Он же представлялся для Ольхина человеком с улицы, кто мог принести новости не в виде сплетен, а достоверно, как сотрудник газеты, и через него можно проверить актуальность других газет, что поднимало иногда поводы для дискуссий. Лишь издания, настроенные на крайнюю агитацию в сторону правительства или противостоящих Советов и партий, условились не обсуждать. Сам Иван Михайлович давно уже на улицу предпочитал не выходить. Он лишь посещал цирюльника, что держал помещение поблизости, да иногда выходил по мелким делам, но все больше последние месяцы проводил дома, и так ему казалось спокойнее.
Алексей Сергеевич уселся в единственное кресло в своей комнате. Расположившись дольно удобно, он уставился глазами в угол комнаты, где стояли два стула, один из которых особенно сильно покрылся пылью, видимо, совсем не пригождаясь одинокому человеку. Так и сидел он, глядя в одну сторону, да понемногу дремал. С недавних пор он предпочитал без повода не бывать на улице, не получая прежнего морального и физического удовольствия от прогулок, что составляли его юность, студенчество и даже взрослый возраст, когда для многих прогулки как таковые выпадают, остаются только пути. Прежде ведь, находится пешком, выветрится, рассматривая город, любуясь им, а как устанет, что аж сил нет, засядет в каком-нибудь месте, выпьет и расслабится. Поразмыслить любил да потолковать. Почитать да покритиковать. И так к ночи домой и придет уставший, но удовлетворенный. Но вот случившееся в феврале очень подорвало его частное бытие. Он не думал, даже и не пытался принять судьбу всего прочего города, без особого труда понимая, что судьба у многих теперь очень похожа. И хоть и стыдно теперь признать даже для себя, но в юности он тоже имел грех и увлекался нигилизмом, резкими революционными идеями и даже состоял одновременно в паре неофициальных обществ, которые как формировались, так и исчезали. Одна беда, никогда он не мог дать себе ответа, против чего бунтует, за что желает бороться. Свержение власти, внесение справедливости, помощь угнетенным, все это звучало прекрасно, даже благородно, но по сути, осталось лишено фактической, действенной части. Нечаев никак не мог проследить преобразования в стране с 1861 года, не правильно трактовал, а то и вовсе не понимал цели и задачи интеллигенции как прошлой, так и своих современников. Борьба с существующей экономической и нераздельно с ней социальной системами никак цельно в нем не укладывалась, и он восстал, да сам не мог ясно выразить, против чего именно. Все это веселье, весь романтизм очень скоро угасли в нем, почти так же внезапно, как и зародились. А ведь много его товарищей и знакомых, кто слишком яро или правильно все воспринимал, теперь либо сложили голову, либо сгинули, да так и таятся. А кто-то из такой затейливой и своенравной интеллигенции сформировал основу, что, так или иначе имели влияние на массы и могли прослыть революционерами или убежденными в этом людьми. Исключительно в теории, в годы своей юности, Нечаев неплохо был знаком с революционными идеями и анархизмом. Дух бунтарства трепетал в нем, а сам бунтующий человек вызывал в сознании восторг и ощущение истинности выбранного пути. Само чувство борьбы и стремление бороться представляло цельную истинность даже не пути революционера, но самого человека. Только в непрерывном усилии виделся путь и достижение хоть бы самой незначительной цели. Ему доводилось читать иностранных мыслителей, черпая идеи, и уважал он, среди прочего, соотечественника Бакунина, имея представления о его деятельности в 1848—1849 годах в Европе, и на его месте он иногда представлял себя как героя. Задумываясь не только о личностях, коих в удивительный XIX век родилось и взросло в Европе в таких количествах, что куда не оглянись – кругом гении, гении, гении, и вокруг неспокойный, меняющийся мир! Творцы и мыслители, что влияли на саму историю, росли на трудах и мыслях таких гениев веков прежних. Слово, мысль, как важнейшие инструменты, что через века сохраняли и развивали знания, общими усилиями создали настоящее. Эти истории вызывали возбуждение и жажду ни то крови, ни то разрушения, но ничего осмысленного, по временам выбиваясь в неопределенную жажду творить, хоть бы и стихи, а хоть историю. Когда ты юн, то ничего не понимаешь о мире и политике, как много не изучаешь, но всегда готов стоять против мира и политики. Восстанческие мысли зрели и бродили не только в нем или его окружении. Этот процесс в русском обществе оказался, разумеется, неизбежным, хотя бы под влиянием внешнего мира, где революционные темы являлись не просто словами, но вполне воплощались. И они проникали к нам, минуя старые, довольные поколения небедных людей и горожан, а уж тем более далекую от народа власть, попадая только в умы уже их детей, точно отражаясь от угнетенных масс, эти идеи множились и больше никогда не исчезали. Увлечение становилось идеологией, которой проникались. Таких, как Нечаев, рождалось много. И как тогда их всех не казнили…
Во времена расцвета своих убеждений, он вспомнил образы бедных людей, их иссушенные руки с кривыми пальцами от работы, он видел их лица в морщинах и понимал, что стыдно ему роптать на что-то, стыдно за свои мысли, пока другие находятся в таком положении. Сходу он не мог вспомнить хоть какого-то конкретного человека, не мог описать рабочего или крестьянина, которого хотя бы отдаленно знал. Все его представления строились на образах, но отчего-то совсем выпадало понятие реального человека. Нечаев полагал, что точно знает, чего хочет народ, и к чему стоит стремиться. Все свои мелочные невзгоды он с радостью приравнивал к народным и накладывал свои цели на всеобщие. Стоит указать, что сам Нечаев походил из семьи горожан, что уже второе поколение жили в Петербурге и являлись представителями не особо богатой, но все же интеллигенции. Любые трудности, какие могут быть у такого человека, представлялись ему положительным фактором, создающим условия для восхитительной борьбы, трудности питали его и вдохновляли.
Ранняя смерть родителей все же оказала на него одно из наиболее сильных влияний, чем все происходящее в жизни. Всяческие представления и мысли рушились о такое понятие, как смерть, как завершение любой борьбы. А следом наступило время, когда бестолково иссякли и средние финансовые накопления. В это время ему открылось, что трудиться просто придется, иначе умрешь. В этот период крайне революционные мысли стали сменяться обычным неудовольствием от такой жизни, и все более отходя от фундаментальных понятий революции, как свержения монархии или целого класса, Нечаев склонялся к тому, что человеку, то есть ему персонально, хотелось бы иметь выгоду в жизни, удобства, да и всего. Нет, смерть родителей не потушила в нем огня, не положила конец стремлениям, но «агония», страстное, лихорадочное состояние, сменилось более рассудительным и бытовым. Нечаев умерил пыл, стал смотреть на ситуацию двояко, и видеть в классе угнетенном свои недостатки, и его идеи склонились в строну реформ, в сторону демократических путей перестроения государства, а вот граждан он считал делом «десятым», все более помышляя о вещах высоких и глобальных, о той же буржуазной революции, а прочее, как бы, само собой приложится. Полтора года он провел в рабочей, бедной среде, иногда отчаиваясь, что на этом его путь замкнется, и вся жизнь так и пройдет. Лишь от неудовольствия положением, сохраняя отголоски былых интересов и не забывая своего интеллигентного начала и вызубренных навыков литературного дела, даже более того, испытывая к тому тайную страсть, писал стихи, рассказы и статьи, пытаясь вложить в них глубокий смысл, уподобляясь гениям русского слова и, конечно, помышляя о славе писателя или поэта. В итоге ему удалось даже опубликоваться несколько раз, после чего он удостоился приглашения в одно издание помощником редактора. Так начался его путь, принесший в итоге некоторое финансовое состояние и удовлетворение от жизни. Работа не физическая, достатка хватало, и на мир он стал смотреть иначе, постепенно отдаляясь от революционных идей вовсе, а все более удовлетворяясь своей жизнью. За годы деятельности он сменил три газеты, прежде чем попал в редакцию справочника «Весь Петроград» и теперь достиг «Нового времени», но, увы, ничего не принесло ему особенного счастья. Дело кроется, быть может, и в возрасте, когда уже не те эмоции, и все дается даже как будто бы легче, или это только так кажется, воспринимается. На свои юные годы и увлечения Нечаев смотрел свысока и со снисходительной улыбкой. Не обладая должной теоретической базой, он всегда грезил идеями сугубо эмоционально, а скудные, даже по собственным современным оценкам, знания не могли дать ничего, кроме чудных фантазий. А потому все ушло, не оставляя следов, не раздражая память и редко теперь приходилось задумываться о делах молодости. А с возрастом жизнь сделалась интереснее, жалование лучше, и все протекало очень тихо, спокойно и приятно. К народным массам Алексей Сергеевич сохранял обыкновенное равнодушие и иногда даже беззлобную нелюбовь. Между дел, как положено интеллигенту, любил он ругнуть даже правительство во главе с царем, но аккуратно и не регулярно. Так и шла жизнь, каждый день. Все хорошо, да только не было счастья.
А теперь уж, когда город, в котором он живет от самого рождения, превращается в место, где ему же жить невозможно, то о каком счастье можно говорить? Ах, как слеп он был, как глуп, когда пел «Рабочую Марсельезу» написанную Лавровым, когда горячо тряс руку товарищам по идейным убеждениям и даже когда совсем недавно угрюмо молчал перед Горьким, повстречав того на мероприятии, слушая его мысли и точки зрения и не смея перебивать. Известный деятель силен в речах, он как скала, и никто не смел тогда ему перечить из молодых и неизвестных творцов да никчемных журналистов, как молчал среди них и сам Нечаев. Разве этого он хотел, когда читал труды о революции, разве это его место? Именно свое место в происходящем больше всего и беспокоило Алексея Сергеевича. Что если все случилось, как и должно, и это всего лишь он сам не обрел себе места? Что за честь говорит в нем? Нечаев не дворянин и не сын офицера, нечего ему смущаться. Когда страну разрывают на части, можно найти и свой кусок счастья на общем пиру стервятников. И тут закроет глаза и подумает: да как ведь так можно, как вообще такое в голову может прийти? Для него в юности революция – правитель на гильотине, вся былая власть – за ним же, и кругом баррикады, сражения, и даже кто-то погибает, какие-то безликие герои проливают кровь! А потом – новое время, новый мир, и все. Незначительные сотни страниц книг, да строки прокламаций и сотни часов бесед так никогда и не открыли перед ним, что смерть одного общества и зарождение другого – долгий, тяжкий и мучительный процесс, особенно когда ты просто наблюдатель. Никогда он не представлял себе, как на самом деле вершатся перевороты. А когда от этого отходишь, так и вовсе стыдно становится, даже перед собой, ведь ты уже как будто не блага хотел, а страшного зла, всего того, что проклинаешь сейчас. И все это вызвало путаницу, и не ясно, где правда, а где нет ее, так все и колеблется на грани, и очень сложно открыть для себя, где правильный путь, ведь не вся жизнь – прогулка.
Ночью в доме по обыкновению тихо. Ольхин оставался верен отчасти убеждениям, а отчасти рядовому чувству, что раз он сам в этом же доме и вынужден жить, то никак не имеет права набирать кого попало, и всякий желающий с улицы не мог снять здесь комнату. Людей всевозможного распутного или аморального образа жизни в доме не имелось. По крайне мере, исходя из поверхностного оценивающего взгляда, так вполне можно сказать. И даже из помещений цокольных или мансардных не доносилось шумов или излишних запахов. И хоть каждая комната в доме оказалась занята, ночи оставались спокойными. Совсем иное можно поведать об улице, и даже не обязательно Садовой, но, наверное, любой. Если в дневное время массы представляли собой хоть и опасность, но в то же время и защиту, то к ночи мрак поглощал все надежды на спокойствие, и никто без очень важной цели не ходил по улицам, и уж тем более переулкам, что и прежде могли пугать нового в городе человека. Ночи Алексей Сергеевич не любил. Редко он спал спокойно, и дело не только в шуме, но и в чувстве опасения за свою жизнь и имущество. Все чаще теперь приходилось слышать про обыски, но, по сути – ночные налеты на квартиры. Цель всегда одна – грабеж, а следом тянулись и прочие преступления. Всякий раз очень неприятно видеть разграбленные и разбитые лавки и магазины. После каждой ночи представлялось возможным либо собственными глазами лицезреть подобное, либо узнать об этом от другого человека или из газеты. Достоверно не ясно, что из озвученного правда, а что не то что вымысел, но бесцеремонная ложь, но мнений и слухов по улицам носилось множество. В целом, улица стала теперь небывалым источником разнородной информации, и иногда Алексей Сергеевич считал, что в таких условиях газеты скоро станут не нужны. Впрочем, это же заблуждение он сам легко преодолевал, едва ему попадался очередной номер ненавистного ему «Рабочего пути» или другой пропагандистской работы, влияние ее оценивалось по достоинству. Все это вносило свою лепту в каждый новый день.
В марте Нечаев думал, что в скором времени все окружающее рухнет, и от страны не останется и следа. Он уже нехотя, даже лениво, помышлял об эмиграции, но к апрелю страна еще стояла, хоть и продолжалась война снаружи, хоть и совсем тяжко становилось внутри, тревога немного утихала, жизнь казалась несколько уравновешенной и терпимой. Впрочем, поводов для возгорания все новой тревоги оставалось предостаточно. Все те же грабежи в домах под видом обысков, а иногда и просто так, ничем не обусловленные, наводили едва затихающий страх. И как любой дом, лишенный хозяев, город постепенно терял и свой очаровательный вид. Во времена безвластия и упадка, проявляли себя пороки и отрицательные черты толпы. Лишенный управления, город не только наводнился сомнительными и равнодушными людьми, но и многие из тех, кто до недавнего времени вышагивал по чистым улицам, кто мог видеть перед собой могучие и поражающие воображение архитектурные ансамбли, парки, и узоры всякого уголка, составляющие единую, полноценную картину всего города, теперь вдруг с общими усилиями только пакостили и больше ни за чем не замечены. Город мерк, и вечно поблекшее небо никогда еще так хорошо не передавало отражение такого истинного уныния и даже отвращения, что местами мог вызывать сам Петроград. Он давно уже не смотрелся той сияющей и грациозной русской столицей, а только холодным, каменным средневековым городом, по улицам которого шагает смерть и запустение. Долгие и насыщенные два столетия, что образовывали этот город от самой первой постройки, до грандиозных дворцов, соборов и набережных, теперь казались такой же далекой и неправдоподобной историей, точно читаешь о древнем Риме, а уж никак не о юной столице, где еще совсем недавно расхаживал сам Петр I. Прошлое изящество как будто бы умерло, и над всем лишь довлело настоящее, а сам Петроград подобен старику – немощному и даже пугающему своей не по годам опрятной внешности, что кроется где-то под неразличимыми новыми образами. Лишь частная собственность хоть как-то охранялась от посягательств, и за рядовой дом иной раз спокойнее, чем за любое памятное место. И все равно, каждую ночь многие тревожились, что сегодня к ним придут грабители и потому очень тосковали, кто по былому времени, кто просто по спокойствию. И так каждую ночь.
Воскресное утро, а следом и весь день, Нечаев предпочел бы провести у себя в комнате, не выходя из нее, но определенная надобность для выхода на улицу имелась, а потому, проснувшись по привычке рано, Алексей Сергеевич, лишь скромно позавтракав с Ольхиным, что бывало у них частым делом, собрался уходить. Заканчивая последние кусочки, в очередной раз доставшиеся ему даром, по доброй воле хозяина, что откровенно подкармливал приятного жильца сверх положенного, Нечаев доел еще и кусок хлеба, оставив тарелку пустой.
– Куда же вы и по какому делу направляетесь, Алексей Сергеевич? – разжевывая позавчерашнее сухое мясо, спрашивал Ольхин.
– На Петроградскую сторону мне нужно, на Малую Дворянскую, – уже поднявшись, ответил ему Нечаев, хоть и никогда не любил этих любопытных расспросов, но не ответить всегда казалось ему неприличной манерой, особенно когда тебя кормят.
– Никак опять к Прокофию Николаевичу обувь носили в ремонт? – сразу принялся гадать хозяин дома.
– Совершенно верно, Иван Михайлович, у второй пары совсем истерлась подошва, пришлось отдать.
– И хочется вам так далеко носить свои туфли? Мастерские ведь и рядом имеются, а это через такое расстояние, – тут же вступился с предпосылкой к спору и совету Иван Михайлович.
– Так знаком мне лично и приятен Прокофий Николаевич, да и делает мне дешевле.
– Ох, Алексей Сергеевич, вы уж аккуратнее… По городу будете идти, так не показывайте, что вторую пару обуви несете. Все эти люди, матросы, дезертиры еще примут вас, не дай боже, за человека обеспеченного. Всякое может случиться, – заканчивал фразу он почти шепотом, точно заговорщик.
– Да я уж буду осторожен. Туда на трамвае, а обратно пешком, так лучше будет, – заверял Нечаев, не так сильно опасавшийся людей.
– Может извозчиком лучше? В трамваях, вы же сами говорили, обворовывают теперь часто. Да и народа в нем ныне катается. Солдаты-то заполонили, ведь прежде не дозволяли.