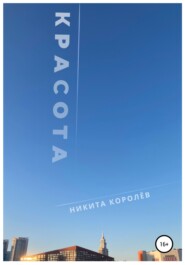По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На кромке сна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но однажды он, сидя в темноте перед бездельно горящим монитором и слушая чилловые биты, открыл страшный закон фломастеров. Суть искусства, согласно ему, сводится к тому, что специально обученные рукастые и остроглазые мастера выплескивают, хорошенько сверившись с календарем Flo (девушки поймут), свое «фу» на мировой рынок, а куча дегустаторов пишет диссертации о своих вкусовых ощущениях и ездит по конференциям с докладами. Все фломастеры, как известно, на вкус и цвет разные – так что всяческое фуфло в Библиотеке Конгресса или Лувре должно было быть вроде как делом вкуса каждого. Однако по какому-то трагическому недоразумению кружок токсикоманов стал одной из ведущих социальных инстанций со своей иерархией, положение в которой зависит от того, как много старых и ядрено-кислых фетровых кончиков ты можешь облизнуть, не поморщившись.
А когда Паню в очередной раз сваншотил какой-то смурф в топовых шмотках, он заметил, что все цифровые погремушки лишь обворовывают жизнь, причем глаз у них, как у домушника с только что сломавшимся голосом на первой вылазке – берут только всякую дорого блестящую пошлость. Пане повезло – он уехал прочь на ночной электричке, в закат сюжетных игр и MMORPG, на заре фотореализма и MOBA-доильников, когда голоса Альянса игроделов звали еще не так пронзительно, а battle for your mind не был таким ожесточенным. Но, сказать честно, даже через несколько лет после выпада из виртуала Паню иногда посещало такое чувство за его любимыми, полезными и – что главное – «правильными» делами, будто бы все это лишь какое-то лживое отвлечение, обман, отвод глаз от вполне конкретной прямоугольной рамки в его комнате. И это не была ломка, нет. Таково было реликтовое излучение того идеального, но навсегда утраченного мира, который приютил всех разочаровавшихся в реале. Временами, конечно, случались рецидивы, но надолго Паню уже не захватывало. Из-за комплекса бездельника и паразита, под кнутом которого строгались первые (и все последующие, если быть честным) Панины успехи на внеигровых поприщах, он испытывал неизъяснимый зуд и пребывал даже в каком-то горячечном состоянии, когда пытался раствориться в действе на экране, что раньше получалось без особых усилий.
Голоса мамы и всех приглашаемых в «прокаженную» комнату родственников, которыми раньше будто бы говорил сноп строгого, но праведного света, лившийся из дверного проема, переселились в Панину голову. Это мамино причитание, эти ее серьезные взрослые вопросы, холодным лезвием проводящие по Паниному самолюбию, мирно посапывающему в ватке комнатного уюта. Этот снисходительно-наставительный тон родственников, их соображения о том, куда Пане можно себя приткнуть, которые напоминали размышления чешущего репу мужика о том, куда и как можно откатить огромный шлакоблок с участка – булыжник эти слова не двигают – не для того сказаны, – но мужицкую смекалку тешат. Конечно, намного проще отобрать у ребенка игру, чем дать ему в реальности то, что он в ней находит. Потому что дать ребенку убедительную цель в жизни, а не выводок страхов, от которых он всю жизнь будет бегать по затхлым кабинетам, увы, невозможно в условиях галдящего рынка, на котором товары старательно делают вид, что они – покупатели.
В общем, компьютерные игры больше не улыбались Пане. Но лишь потому, что игрой стала сама жизнь. Вернее, она теперь состояла из них. Москва, может, и была третим Римом для новых византийцев на тонированных повозках и в малиновых сорочках, но для Пани она была одним большим залом с аркадными автоматами. Были мини-игры вроде тетриса, в который Паня играл, идя по уложенному плиткой тротуару, но были и проекты покрупнее, настоящие игрища.
Они выводили Паню на ночные улицы, гулять по орочьим чугунным проспектам, бродить по эльфийским рощам, прилуняться на поверхности девятиэтажного мира гномов, что сквозь мглистую тьму сонно смотрел своими алмазными глазами прокуренных лестничных клеток, теряться в его глухих, скрюченных ржавчиной дворах, разгадывать изразцовую мозаику домов, оставленную некогда Красным Сфинксом, – наконец, заглядывать в окна первых этажей, где, как в разъятом кукольном домике, текла, быть может, неведомо для самих жильцов, простая и красивая жизнь, цвела и увядала дородная и тугая, как спелый нектарин, любовь. И то, что Паня мог лишь своим взором греться об это телесное, лоснящееся в быту и каждодневной круговерти тепло, стоя на улице и ежась от январского холода, было для него до боли в отмороженных пальцах символично.
Жизнь в разрезе оконной рамы вызывала в Пане невыразимый трепет. Но для нее Паня был лишь частью промозглой картинки за окном, от которой хотелось скорее отгородиться шторой и укрыться пледом. Право, этот мир был бесконечно увлекательным и познаваемым, но с каждым годом в Пане крепли сомнения, которые к совершеннолетию обернулись ужасом осознания – Красный Сфинкс разложился на плесень и на липовый мед, так что квест этот сдавать больше некому.
Лапки отчаяния все смелее и смелее ходили где-то внизу Паниного живота, отзываясь спазмом тоски. Но, может, это был всего лишь один из побочных квестов? Может, вернувшись на пару локаций назад, еще можно было найти заветного NPC с золотистым восклицательным знаком над головой? Везде Паня исступленно, неясно для самого себя, искал лишь одного – новый виток когда-то упущенной квестовой ветки.
Он обратился к детству, не такому далекому, но уже успевшему умереть, чтобы стать святым. От мамы Паня узнал только то, что выйти на свет ему помогли. Кесарево сечение. Говорят, что у ребенка, появившегося на свет не своими силами, не пережившего запредельных перегрузок в родовых путях, не сформировался характер. И это был первый момент в Паниной жизни, когда он действительно пожалел о полученном знании. Потому что теперь ему до самой смерти суждено было гадать, действительно ли причиной его слабого характера были осложнения при родах или же это только темница навязчивой фантазии, порочный круг самомнения.
Впрочем, магнетизм этих двух полюсов, придавливающих нас к нам самим, силен одинаково, а если бы вы спросили Дениса на этот счет, он бы и вовсе сказал, что не видит особых причин разделять фантазии и реальность и что второе – это очень хорошо внушенное первое и что горние, неосязаемые мечты могут запачкать вполне материальные, мать их реальные простыни.
Но причины для волнения у Пани все же были.
Он слишком поздно начал спать в своей кровати и еще позже – без света. Его фантазия, покончив с очередным Эльдорадо, могла вмиг дополнить серию «Мрачных картин» Гойи достойным образцом, причем сделать это на клочке туалетной бумаги. Если отбросить всю эту образную мишуру, Паня иной раз боялся проехаться в лифте один или остаться наедине с открытой туалетной крышкой. Он боялся любых натуральных водоемов, какими бы Кракен-free, по заверениям взрослых, они ни были, больших пустынных улиц и высоты.
Загаженный поп-культурой мозг – это когда гадаешь, что лучше: чтобы возможный чудик за твоей спиной не отражался в зеркале или наоборот – имелся только там. И Паня всегда выбирал первое, ибо, как сказал один пухлый литератор, чьи лекции он смотрел на ютубе, вампиры все-таки сосут.
Книги, фильмы, музыка, поэзия, кумиры, разнесенные ветрами времени по эпохам, будто звезды, рассеянные по миллионам галактик, что на небесном полотне слагаются в созвездия. Ничто из этого не давало ответов, а лишь красиво и стройно задавало Панины вопросы, обращенные к вечности, из которой их обязательно выудят, как из зацветшей болотной воды, наши потомки, что с насмешливой брезгливостью, быть может, бросят только беглый взгляд на сей улов и не посчитают нужным удостоить хотя бы нашу память озвученным ответом. Тогда Паня сам стал упражняться в мастерстве задавать вопросы, потому что, как гласит вековая мудрость, в правильно заданном вопросе уже кроется часть ответа. Первый творческий опыт, как и все первое и важное, что ты испытываешь, будучи, конечно, в сознании, запомнился Пане на всю жизнь. Это было стихотворение, навеянное впечатлениями от только что просмотренного сериала о Григории Распутине. Паню одолела такая скорбь по Родине, такое отвращение к свергшим царя совкам, что, преисполненный патриотическим духом, он уединился у себя в комнате, и не успели закончиться титры, как он уже позвал маму, чтобы показать ей, «какой он сейчас стих в тему нашел». Были в нем и те самые, известные любому поэту-чайнику слова-пустышки «та», «тот», «те», заполняющие лакуны в ритме, и, конечно, глагольные рифмы. Но важно было совсем не это, а та сила, что повела Паню, шестиклассника, в комнату, где он при свете одних лишь собственных букв на мониторе изливал душу. Случалось ли такое с ним раньше? Случайность ли это, или же его судьбой с самого начала была поэзия? Паня вновь обратился к детству, но на этот раз к тому его мгновению, которое запечатлелось в его собственной памяти, и потому тяжелыми открытиями не грозило.
Там Паня, еще пятилетний мальчуган с высветленным крымским солнцем горшком и расчесанными от комариных укусов ногами, взбирался на навозную кучу на даче у бабушки под Тулой и оттуда без особых заминок и промедлений вещал все, что только приходило ему в голову и хоть сколько-то рифмовалось, заходясь каким-то сугубо детским, пискляво-бесноватым смехом. От веселья и прыжков по навозным склонам его щечки краснели, а потные волосы застывали иголками. На словах «Поганка на улице Таганка» бабушка кому-то вполголоса сказала: «Поэт растет», хотя на участке кроме них никого не было.
Паня понял, что муза с самых ранних лет разжигала в нем огонь вдохновения. С годами учений и практики к нему просто сгребали угли умных слов и жизненного опыта, и оттого пламя становилось пышнее. Но искрой всегда оставалась вот эта детская потешка, озорство, с которым Паня расхаживал по навозной куче у бабушки на даче.
Однако с первой грубой растительностью на панином теле эта искра потеряла свою былую непринужденность, и чем дальше Паня уходил в теоретические дебри, пытаясь восполнить утрату, чем глубже он погружался в опыт великих предшественников, разрываясь между ним и скоростями наших дней, тем сложнее ее становилось высекать. Вернее даже, как только Паня обнаружил сложность этого дела, искры вовсе перестали выходить из-под его руки. Она, рука, задубела в холодном расчете ритма и строф, дрогнула, когда содрогнулся и сам Паня – перед эталонами, и, потеряв искренность, утратила искру.
Однажды, смотря утренний блок мультиков по «СТС», Паня разглядел нечто, что объединяло сериалы с разной рисовкой, разных лет и даже от разных студий. Блуждающий сюжет, сквозной мотив или клише, как называют это в приличных местах. Словом, повторяющийся момент. Персонаж забегал за край пропасти, но почему-то не падал, а стоял себе как ни в чем не бывало на воздухе. И лишь когда он смотрел себе под ноги и осознавал абсурдность своего положения, он срывался вниз.
В этой сценке, архетипической для всей придурковатой гиперактивной мультипликации, возможно, крылось подсознательное высказывание мультипликаторов о природе их ремесла, а возможно (что вероятнее), не крылось ничего.
Но Паня увидел в этом наилучшую иллюстрацию творческого процесса.
Ты творишь, становясь частью фантазии, до тех пор, пока не узнаешь об этом. Так мы летаем или дышим под водой во сне только потому, что не знаем, что так нельзя. А когда вспоминаем, сила притяжения нас тут же придавливает к кровати.
И Паня вспомнил.
Оттого дело поэзии осталось за новомодными словцами под изувеченный ритм и всякими образными остротами, завернутыми в лаваш переваренной культуры. В общем, за глумлением над и без того уже униженной и оскорбленной всеми возможными мотами и транжирами поэтикой.
Одно слово с легкостью заменялось другим, а целые четверостишия выкидывались без потерь для смысла. Это поставило Паню перед новой дилеммой: то ли все слова одинаково точны и истинны, то ли одинаково мертвы и дурно пахнут, аки пчелы в улье запустелом. И поняв, что всех случайных чертей, как и завещал Блок, уже стерли, а мир так и не стал прекрасным, Паня склонился ко второму варианту.
К тому же после пары неудачных попыток продать себя киберпублике, причем в очень дружелюбной к их разжиженным мозгам обертке, Паня стал догадываться, что популярной и востребованной чью-то мазню делает отнюдь не ее качество. Ведь банально хорошо написанного было много, как он убедился, посетив самые захолустные и удручающие своей безвестностью уголки Интернета, о которых, казалось, не знает чуть меньше, чем никто. Дело было совсем в другом.
И Паня распознал, в чем.
На выпускной вечер всех еще тепленьких школьников по доброму московскому обычаю загоняют в Парк Горького, где устраивают насыщенную культурную программу, которая, правда, как пережеванное суфле, плавающее в школьном туалете, может насытить только ну очень голодного духом будущего медработника. По площади парка несколько сцен, а на них перед микрофонами – люди-баннеры, рекламирующие чипсы, кроссовки, средства от прыщей и ставки на спорт. Паня все распознал, стоя перед одной из таких сцен и разжигая в себе ту меланхолию, которую на шумных мероприятиях испытывает каждый любитель тихой лирики и красивых любовных историй, мимо которого праздник проходит лишь в картинках каких-то слишком надуманных поз, слишком широких улыбок и слишком громких слов. Он все понял, качаясь на волнах клубных басов, гулявших под его ребрами и в черепе. Культурные светила нынешнего века не формировали мировой поколенческий гламур – они в него встраивались, обмазываясь вазелином мемов и подростковых грез, чтобы протиснуться в прямую кишку твоей новостной ленты. Это не их разгадывает читатель, зритель или слушатель, заново собирая себя, умного, сильного, по кусочкам. Это они разгадывают культурный код очередного «потерянного» поколения, собирая себя и свой стиль (хотя кое-кто из французов не согласился бы, что это разные вещи), как конструктор, из брендов, манер, фактов биографии и воззрений. Если приглядеться к сцене (что буквально и сделал Паня), становится понятно, что она вся состоит из таких вот дурачков-простачков родом из глубинки, на которых популярность свалилась как снег на голову летним днем – вопреки всем метеорологическим сводкам, и которые так трогательно пересылают каждый месяц пожилым родителям часть своего скромного заработка, а иногда даже заезжают в тот захудалый городишко, в котором им стало тесно и откуда они отправились покорять Москву. Понятное дело, что таким трудягам с отпечатком тяжелого прошлого на их подправленных столичными стоматологами улыбках намного охотнее веришь, а сами они охотнее прельщаются деньгами, которые им платят за рекламу выгодной маркетологам жизни середняка. Однако же все только и делают, что покоряют: индустрию, города, публику. И хоть одна бы скотина спросила, чем им помочь-то нужно в их нелегкой жизни резиновых кукол…
Но труд этих успешных, сесть успевших деятелей искусства, несмотря на внешние его стороны, на самом деле крайне унизителен. В услугах творческой шайки широкий потребитель нуждается только как в двери, через которую он входит в нужную ему социальную группу или в мировой гламур, нежась в котором каждый чувствует себя немного лучше остальных.
Вид из окна сильно поменялся после переезда в мамину квартиру. Теперь это была эклектика железнодорожных пунктиров, прилегающих к ним промзон и зубцов какого-то неведомого, существующего только в данной перспективе города. Его, как кощунственный идол какому-то неизвестному божеству, возвели пленные немцы, после Войны отстраивавшие северные районы Москвы. Без сомнения, это был зловещий привет из душного и клыкастого прошлого, который предназначался не для надзирателей с красными звездами на плечах, и потому они упустили его из виду. Летом он выглядывал из пышных древесных крон, а зимой сурово светил из седой темноты своими мутно-оранжевыми крышами. Октябрьское Поле. Это был не сам город, а скорее платформа, с которой в его закуренные, оплетенные сушильными веревками переулки и неоновые стоглавые просторы отправлялись поезда с назначением Октябрьское-Готэм.
Все это было бесконечно чарующе, но иногда, в редкие зимние дни, освещенные солнцем, небо было так высоко, а дома – так низко, что Пане отчетливо виделась плесневая долина, по которой едва уловимым движением растекался фабричный дым, выпущенный непонятно кем и для кого. И хотя плесень зданий, мостов и улиц разрослась очень причудливым узором, это, однако, не умаляло ее тлетворных качеств, а ее лицезрение было изыском обеспеченных обитателей высоко посаженных многокомнатных лож. Богатые любят плесень. И, быть может, потому, что подобное притягивает подобное.
Но поменялся не только ракурс – менялся и сам мир за окном. Он нещадно паршивел и упрощался, несмотря на то, что экран, откуда доносилось это паршивое упрощение, становился все ярче и тоньше, а камера, на которую его можно было снимать, все дотошнее передавала его буро-коричневые изгибы. Он опошлялся и загорался тем сортом убойной гормональной злобы, с которой обезьяны в зоопарке метаются калом. Словом, он вел себя, как быстро пьянеющий интеллигент – и тем досаднее его дебош, чем глубже до этого были размышления о западной философии. Описанию нынешней реальности посвящено немало придворной, контрпридворной и откровенно дворовой литературы. Но главной ее фишкой Паня видел то, что вопрос «кто ты?» рефлекторно опускает твою руку в карман за соответствующей бумажкой, и нередко – с денежным номиналом, а все концы человеческих взаимоотношений обрываются номером карты получателя. Кто-то говорит, что так было всегда, кто-то – что квартиры принадлежали совхозам, предприятия – народу, а воду с электричеством не считали вовсе. Пане, заставшему «Великолепный век» разве что в виде сериала, который смотрела его бабушка, оставалось лишь плавать в патоке чужой ностальгии, выискивая в ней крупицы истины.
После изрядного количества советских фильмов, просмотренных в кругу семьи, Паня пришел к выводу, что все они снимались лишь с тем, чтобы «Союз нерушимых» мог снова загрузиться на русские сервера, представившись очень красивым и надежным бэкапом перед теми, кто, как и Паня, уже не стоял в очереди за колбасой или перед стенкой на Бутовском полигоне, не краснел на партсобрании или вместе с остальным штрафбатом – во рву. Проблема только в том, что такой версии с ее остроумными усатыми дяденьками с трубкой и в кепи и простодушными девчушками с бантиками нигде, кроме как на облаке, не было. Советский кинематограф по экспорту Молочной Реки, закатанной в обаятельно мутноватые банки, в будущее ничуть не уступал американскому, это так. Но, судя по всему, Красное Колесо, основательно прокатившись по демографии, укатилось из России на Восток и, обогнув всю Землю, прикатилось с Запада уже в виде колеса обозрения.
Потому что мир вокруг стал чем-то вроде парка аттракционов, где кассиры смотрят лишь на руку, протягивающую им талончик и на ростовую шкалу, которой владелец талончика должен по закону соответствовать. Мир развлечений и радости, громких премьер и ошеломительных сенсаций. Он не отпускает, пока в твоем кармане еще есть хотя бы пара талончиков, которые за пределами парка окажутся просто разноцветными бумажками. Но когда они кончаются, ты видишь просто скопище механических клешней, массировавших твое капризное, вечно зудящее скукой тело. Без талончиков это просто пустырь, заставленный железками и укутанный брезентом. Вокруг азарт, эйфория, буйство красок. Но по парку ходят одни роботы с догнивающими ошметками человечности внутри – уроботы. Культура, мораль, этика, чувство прекрасного, такт – все это скукожилось рудиментарной культяпкой, потому что доплачивают только за их ханжеское преподавание, да и то лишь в богом забытых дырах. Раздавленные новогодним грузовиком «Coca-cola» и похороненные на кладбище домашних животных, они воскресли зомби-симулякрами вроде репараций за «двенадцать лет рабства», выплачиваемых золотыми статуэтками, небритого феминизма, семейных докторов и яппи-психологии «think positive».
Ужиться с уроботом, чей каждодневный трек выстилает плитка, а длину шага отмеряют ее швы, с автоответчиком, желающим вашему кошельку хорошего дня, стало проще, чем с беснующимися на Ближнем Востоке останками жизни.
Но где-то там, на отшибе, где уже начинается степная трава, рядком стоят кабинки загаженных смердящих туалетов. Их не показывают на развешанных всюду больших экранах, потому что там крутится реклама нового аттракциона. Это некрасиво, как и всякая правда в условиях узаконенной лжи. А когда уже из-под ног начинают доноситься знакомые чавканье и смрад, из другого, более опрятного Лунопарка, выписываются ассенизаторы. Безусловно, мировое правительство проявило себя, превратив этот сомнительный опыт в еще один аттракцион.
Однако любое время, в сущности, было нулевым – просто особенно отчетливо это стало видно в нулевые, когда обнулился даже календарь.
Как и любой самоубийца, папа оставил после себя много тайн. И глядя на всю эту жирную, теплую, разноцветную, но, в сущности, однородную бурятию под ногами, Паня все больше уверялся, что папа обо всем знал заранее. Особенно ясно эта мысль сияла в моменты очередного «крупнейшего в новейшей истории теракта», природного катаклизма или нефтяного запора на Ближнем востоке, «ликвидируемого» НАТОвской виагрой и подбирающегося все ближе к российскому стояку. Над местами детства, сакральными, волшебными, прекрасными – над их с папой местами – угрюмо покачивались таблички с надписью «Закрыто», и с каждым годом их становилось только больше. Они напоминали ущербные кустики у скоростной автомагистрали, занесенные дорожной пылью, обрыганные автомобильным перегаром и тихо вянущие. Милые, красивые, но такие ненужные. Те же, что не закрывались, узнать из-за их вынужденно подчеркнутой пошлости было так же трудно, как одноклассницу – у трассы за МКАДом. Опыта такого у Пани, конечно, не было – он учился в приличной, почти престижной школе – но лучше было не испытывать лишний раз судьбу.
Чья-то смерть иногда говорит больше, чем чья-то жизнь. И на этих пустырях детской радости Паня, вспоминая об отце, слышал целые эпитафии. От места к месту, от пустыря к пустырю формулировки их несколько разнились, но все они посвящались одному прискорбному событию – неминуемому вымыванию сложных структур в процессе общемирового климакса.
«Когда из мира уходит все хорошее, самое время сказать ему «всего хорошего» – слышалось Пане в этом завывании ветра, что свободно гулял в пустых глазницах домов-скелетов, ползая по их истончавшим стенам. Отчаянным авантюризмом была пронизана вся отцовская жизнь, а в этом его последнем поступке слышалось такое слюнявое и напористое «фе» в сторону общественной вредоносной программы, на которую потявкивает даже самый ленивый антивирус внутри каждого человечьего тела, что Паня вновь обратился к детству.
На сей раз оттуда, в тяжелом молчании спальни-свидетельницы, отнятой у живых под расчет с жизнью, на фоне неубедительных небес на него смотрел отцовский лик, стянутый полуулыбкой. В потухших глазах дотлевала суровость старого ослабевшего льва, из-за которой гиены не подойдут к нему до самого последнего вздоха.
Вечерами по MTV они с папой смотрели «Южный Парк». Этот мультик был насквозь пропитан таким прожженным цинизмом, таким трясущимся на холодной вершине одиночеством, что Паня, склонный судить о людях по их культурным предпочтениям, тут же нарисовал психологический портрет отца как разочаровавшегося в ушлом копошении интеллектуала, героя остросоциальных фильмов, в которых оскорбительно примитивная среда рождает возвышенно грустящих отщепенцев. Этот образ подкреплялся и той причиной, по которой папа звал своего сына Понтием или Понтюшей. Его любимой книгой была «Мастер и Маргарита». Когда же Паня до нее, наконец, добрался и в три дня осилил, его охватила такая щемящая тоска, будто на закате августовского дня, когда увядающие лучи золотят дороги и румянят фасады, ветерок донес до него папино добродушное: «Понтюш, ну теперь-то ты понял?».
Папа, бесспорно, был тонкой и чувственной натурой, могшей взмыть в небеса, но опустившейся на самое дно. Малодушные же мальки малозначительно мельтешатся на мелководье. Он был сильной личностью, осчастливившей людей, но и принесшей им страшное горе. Слепые котята же скребутся под порогом людских душ, царапая только дверь. Он обладал широкой душой, вместившей бы в своих чертогах великое благо и парившей бы в высшей чистоте, но вместо этого он посеял в себе великое зло и утонул в его нижайших греховных заводях, задохнувшись в его бесплодной завязи, подпаленной полуденным лучом запоздалой совести. Озлобленные же щенки кичатся жалкой выслугой и прудят мелкие грешки, иногда почесываясь от совестливого зуда. Возможно, чуть в более теплом краю на его муках взошел бы шедевр или храм – но когтистые лапы окраин, покрытые слякотной краской, особенно вдохновенно ходят по широким холстам.
В ноябре, когда Паня активно не учился в одиннадцатом классе, его вместе с одноклассниками повезли на экскурсию в офис одной из ведущих IT-компаний страны. Первые несколько этажей представляли собой большую разноуровневую территорию, соединенную стеклянными лестницами и отведенную под досуг. На первом этаже располагалась спортивная площадка с синим резиновым покрытием и разметкой под все виды игр. На втором этаже, на стене возле лестницы, висел большой пупырчатый логотип компании, на который сотрудники лепили своих лего-человечков. Это прекрасно демонстрировало бы кадровую ситуацию в офисе, если бы после каждой такой экскурсии этот леготип не нес серьезных потерь. Но ничего не поделаешь – «лего» нынче – дорогое удовольствие. Так что последние бойцы, висящие в самом верху, были чем-то вроде ватерлинии, выявляющей средний рост малолетних преступников с учетом вытянутых рук.
Дальше, после стеклянных дверей конференц-залов, на углу был кофе-поинт с бесплатным кофе и снэками. С разрешения экскурсовода школьники его заполонили и, изрядно опустошив, вышли с картонными стаканчиками. На стене чуть дальше висел большой, вытянутый кверху экран, похожий на смартфон со включенной сэлфи-камерой. Все, кто подставлял камере лицо, показывались на экране со стеклянным шаром на голове, в котором плавал их мозг. Но так как за раз превращался только один человек, за «корону» пришлось побороться. Вдоволь натолкавшись, ребята двинулись дальше и оказались в просторном зале, по периметру которого стояли мягкие, скрученные кольцом лавки с высокой спинкой для посиделок в уединении. Чуть дальше, на пятачке, лежали кресла-мешки. Проход к лестнице сужался высокими – до потолка – темно-синими портьерами, огораживающими прямоугольную площадку перед лестницей. В зазоре между ними, быстро сменяя один другой, замелькали любопытные глаза. Паня тоже посмотрел. Люди в несколько рядов сидели на пластиковых складных стульях, за кафедрой стоял мужчина в костюме, а за ним висели плазмы, объединенные в один большой экран с открытой презентацией. Поднявшись по лестнице, ребята оказались во фрэш-баре, у главной, по словам экскурсовода, достопримечательности офиса – соковыжималки, давящей апельсиновый сок. Бесплатно. Кофеманы стали давиться своими напитками, чтобы успеть насладиться витаминной халявой. Паня, не бравший кофе, огляделся. Помимо массивного агрегата, приковавшего к себе все взгляды, на столешнице за деревянной стойкой располагались неотъемлемые атрибуты московского долголетия: блендер, очищенные фрукты в металлических тазах, от одного вида которых рот наполнялся слюной, пакеты молока и сливок, тюбики с медом и сиропами и еще одна соковыжималка – только эта была для моркови и яблок, сложенных в спиральных подставках по бокам.
Паня взял оранжевый стаканчик и, пока все стояли в очереди за апельсиновым соком, отжал себе морковный, разбавив его сливками.
Лаунж-зона была стилизована под тропики: барная стойка, отделанная бамбуком, плетеные качели под соломенной крышей и искусственная трава под ногами.
Напротив сплошного деревянного подоконника с разложенными на нем подушками стояли массажные кресла. У самого крайнего была компания из нескольких молодых людей: двое стояли опершись на подоконник, а третий, в рубашке в красную клетку и джинсах, сидел в кресле. Паня уселся в соседнее, поставил стаканчик на подлокотник, выставил режим «Relax» и откинулся на спинку, сбросив прятавшуюся до этого момента тяжесть тела. Незаметно для самого Пани действие вокруг зажурчало каким-то суетливым, но, в сущности, малозначительным потоком.
Компания возле соседнего кресла о чем-то разговаривала. Мужчина лет тридцати, в костюме и белых кроссовках, говорил громче остальных. Черные, аккуратно зачесанные волосы, чуть обвисшие щеки, а черты на желтоватом, будто бы всегда изможденном лице – густые брови, карие глаза, тонкие губы, маленький нос, синева под носом и на подбородке – словно выведены угольком. За ним, на подоконнике, стоял бокал шампанского, видимо, унесенный с корпоративного фуршета. Был вечер пятницы. Мужчина в костюме подошел к своему сидящему в кресле другу – на лице у того нарисовалась настороженная улыбка, – вытянул два указательных пальца перед его глазами и стал через каждую секунду спрашивать, видит ли он их, чередуя эти вопросы со строгим указанием смотреть на него, а не на пальцы. По мере поступления утвердительных ответов он плавно, по дуге, заводил их за уши подопытного, пока они не оказались вне досягаемости его периферического зрения. После утвердительного ответа уже в таком положении фокусник отнял руки усталым, полным какой-то учительской досады движением. Он сказал, что его друг не готов, что он не присутствует здесь и сейчас и что он не контролирует свое сознание.
Паня, все время наблюдавший за фокусом, захотел в нем поучаствовать. Но от одной мысли о том, чтобы вмешаться в разговор, сперло дыхание и стиснуло живот. Однако по глазам фокусника, напоминавшим мокрые маслины, по его чрезмерно размашистым движениям и размазанной речи становилось понятно, что фокусник изрядно поддатый. Это обстоятельство понижало градус волнения – общение с пьяным человеком превращалось в определенную форму игры.
Паня извинился и спросил, стараясь не мямлить, из-за чего его речь выходила какой-то угловатой и жесткой, можно ли с ним повторить то же самое. Фокусник подошел к его креслу, уверенно и сразу, будто он только и ждал, когда Паня его об этом попросит, а Паня, в свою очередь, уже и не думал расслабляться и сидел приподнявшись, как бы вытесненный катающимися под кожаной обивкой валиками. Фокусник повторил процедуру. Исход оказался прежним. Вердикт также оказался неутешительным – Паня не управляет своим сознанием.
Видите ли, он всегда мнил о себе, как о человеке большой и голубкой души, закаленной в экзистенциальных жаровнях и на нравственных перепутьях. Но если бы вы спросили, Паня никогда бы не ответил вам именно так, мямля что-то о непростой судьбе и вдумчивом созерцании жизни.
Другие электронные книги автора Никита Королёв
Другие аудиокниги автора Никита Королёв
Друг




 0
0